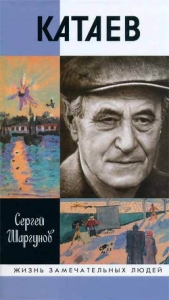Сердце: Повести и рассказы
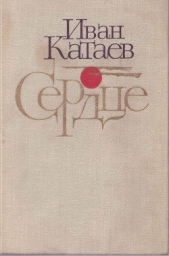
Сердце: Повести и рассказы читать книгу онлайн
Среди писателей конца 20 — 30-х годов отчетливо слышится взволнованный своеобразный голос Ивана Ивановича Катаева. Впервые он привлек к себе внимание читателей повестью «Сердце», написанной в 1927 году. За те 10 лет, которые И. Катаев работал в литературе, он создал повести, рассказы и очерки, многие из которых вошли в эту книгу.
В произведениях И. Катаева отразились важнейшие повороты в жизни страны, события, участником и свидетелем которых он был. Герои И. Катаева — люди бурной поры становления нашего общества, и вместе с тем творчество И. Катаева по-настоящему современно: мастерство большого художника, широта культуры, богатство языка, острота поднятых писателем нравственных проблем близки и нужны сегодняшнему читателю.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Кирюшка медленно стянул шапку, на цыпочках подошел к кровати. Под горкой розовых подушек, внизу, светлей, чем холстина, белело маленькое круглое лицо.
Он перекрестился.
В конторе Кирюшка еще застал Фатеева и Блохина. Оба сидели, нагнувшись над широченным листом бумаги, что-то записывали. Блохин, выкидывая в сторону руку, легко и быстро, точно играючи, отщелкивал на счетах. Кирюшка постоял у печки.
— Теперь, значит, вика-зерно, — сказал Фатеев. — Клади триста восемьдесят два центнера. Есть? Вычитай семфонд, сто пятьдесят четыре.
Блохин бойко заморгал пальцем. Кирюшка покашлял.
— Так. Давай дели на шестьдесят тысяч плановых.
У Блохина под пальцами пошла звонкая сухонькая музыка. Кирюшка осторожно выступил на шаг вперед.
— Дочка у меня померла, — сказал он совестливо.
Те оба враз подняли головы.
— Когда?
— О полдень нынче.
— Это какая же, — встревожился Фатеев, — неужто из шекаэм которая, светленькая такая?
Кирюшка посмелел.
— Нет, там Катя, а это младшенькая, Маруська, Марья Кирилловна, — поправился он. — Воспаление у ней было в легком, застудили.
Фатеев сочувственно почмокал.
— Что же вы, лечили ее?
— А как же не лечить, лечили. Женка сколько раз в анбулаторию носила, микстуру на нее выдали. Уж мы думали, на облегчение пошло, и фершал так предсказывал. А тут вдруг в три дня и скрутило ее, мы сами даже как следует не приметили. Женка нынче со скотного возвернулась, а она уже холодненькая лежит.
Он прилично вздохнул.
— Ишь ты, горе какое, — Фатеев покачал головой. — Ну что же, когда теперь хоронить-то будете?
Кирюшка стеснительно посмотрел на свою грязную, в присохшей земле, ладонь, поскреб ее ногтем.
— Да вот, товарищ Фатеев, деньжат бы мне малость. Значит, на похороны на эти самые.
— А у тебя разве нету? Ты же тыщу рублей получил. Будто так уж все и потратил на корову? Небось ведь осталось?
— Полсотии осталось, товарищ Фатеев, да тут жепа сдуру надумала поросенка покупать, вчера все как есть и отдала на базаре.
— Поросенка? Почему же сдуру? Это, брат, не плохо, свинья дело доходное. Ну что ж теперь сделаешь, давай, Блохин, выпиши ему авансом в счет денежной части. Двадцатку хватит тебе?
Кирюшка обрадовался, закивал: хватит, хватит. Больше чем на червонец он и не надеялся.
Получив деньги, попрощался и поскорей шагнул к двери. Еще одумаются, скостят половину.
Шоссе подсыхало, день выстоял солнечный, смирный, но сейчас, к закату, повеяло сухим холодком, небо над селом, прозрачное и бледное, не держало тепла, земля стыла. В прогалы между избами выглядывало низкое тучное солнце, мазало через дорогу, по глазам красным огнем. Высоко прошуршала несчетная галочья сила, шатнулась вбок, унеслась к гумнам. На выгоне уже стлались над землей первые волокна тумана.
Медлительный час, печальный час.
Дочка ты, дочка, Марусечка.
Пятеро их рождалось, плакало и помирало за полтора десятка лет, уже и имена перепутались, привык к легким, коротким гробам. А эту, шестую, жалко. Теперь бы ничего, выкормили с коровой-то, подняли б. И ведь такая здоровая, пухленькая была девочка, даже за болезнь с личика не очень спала. Как это недосмотрели они, надо бы еще разок в больницу снести, а то к себе на дом дохтора вытребовать. Теперь уж пошлет ли господь дитеночка? Сынка бы.
Миновал почту, у центроспирта стоял недлинный нередок. Эх, разве с горя-то... Остановился, пощупал в кармане бумажки.
Как-никак помянуть надо, да заодно уж и к празднику.
Перебрался через канаву, стал в черед.
Вернувшись домой, сразу через сенцы прошел во двор, сунул литровку в сено, у стеночки.
Стемнело, стали сбивать на бригадное собрание. Он уж последнее время ходил на них, сам-то в разговоры не лез, помалкивал, а послушать — что ж, послушать — оно даже и любопытно. Опять же, следят за этим. Раз корову получил, теперь как-то и невежливо бегать от собраний.
Сходились, как всегда, в пристройке возле конюшни. У Попкова это было вроде святая-святых, держал чистенько. Рундук с овсом, в углу переходящее знамя, взяли за уборочную, на стенке расклеены плакаты, тикают ходики. Кирюшку, сразу как вошел, отвел в сторону Сердюков, парторг, спросил участливо:
— У тебя, говорят, дочка померла?
— Померла, — с важностью вздохнул Кирюшка. — Не уберегли девочку. Воспаление у ей приключилось в легком, две недели ходили, да вот не выходили. Надо бы ее к самому дохтуру снести, может и выискал бы какое лекарство, али бы там градусник еще разок поставил. А нам с женой и невдомек, что она кончается, и не кашляла вовсе последние дни, лежит себе тихонько.
— И хорошая девочка была? — сокрушенно кивал Сердюков.
— Уж такая хорошая! Крепенькая, беленькая, прямо орешек каленый. Трех годочков еще не исполнилось, а разумная до чего, все понимала. Бывало, сама сказочки сказывала, каким ее старшая сестренка обучит, песенки пела.
— Та-а-к-так-так-так. Вот ведь несчастье-то, — сказал Сердюков и помолчал. — А как вы, товарищ Чекмасов, насчет работы завтра?
Кирюшка потупился.
— Что ж, я, пожалуй, выйду, — сказал он с заминкой. — Все одно, хоронить не завтра. Если надо, так уж я выйду.
— Выйдешь? — обрадовался Сердюков. — Ну, молодец, герой. Так ты, товарищ Чекмасов, выступи сейчас на собрании, помоги нам, а то у нас есть такие несознательные, нипочем не желают работать. Уперлись, как бараны, козырной да козырной. Выступишь?
— Да как же я? — перепугался Кирюшка. — Я и не умею совсем, двух слов не найду. И не говорил ни в жизнь. Нет уж, ты ослобони меня, товарищ Сердюков, ослобони, пожалуйста.
— А ты слушай меня, погоди. Тебе много говорить не надо. Ты только выйди и скажи, так, мол, и так, хотя у меня в доме произошло семейное несчастье, а я все-таки сознаю важность своевременной уборки картофеля и завтра работать буду. И больше ничего. Там уж я за тобой разовью. Понятно? Ну, давай, пойдем, пойдем, пора открывать. Так, значит, скажешь?
Кирюшка только заморгал, улыбнулся потерянно.
Собрание прошло для него, как в дыму. Сидел на скамье, рядом с Сердюковым, дергался. Сейчас мне, вот сейчас. Колыхалась в махорочном облаке пятилпнейка на столе, коптящая длинным острым язычком. Попков говорил, Панька Глухов, Сухиничева, другие, кто за работу, кто против. Только и слышалось: козырной, картошка, заморозки, картошка, козырной. Потом вышла Надежда Горбунова, встала гоголем, руки скрестив, усмехнулась.
— Вот как получается, граждане колхознички. Работали мы с вами, дней-часов не считали, а как нам передохнуть да в свой-то разъединственный козырной праздничек поразмяться, так у них, видишь ты, все часы считанные. Это что ж такое? Цельное лето надрывалися, ночей не спали, не варили, не стирали, ребята на одном сухом хлебе круглый день, и за это праздника нам нет. Недостойные мы. Единоличнику можно, а нам запрещается.
— Будет тебе праздник, — крикнул Панька Глухов. — Обожди три недельки, там седьмой ноябрь, годовщина. Или тебе с попом хочется?
— Мне попа не надо, — отрезала Надежда. — Я не молитвенница. А толыш как завсегда привыкли эти дни в спокое да в радости проводить, так и нынче желаем.
Кто-то со смешком ввернул:
— У них, у Горбуновых, больно много браги наварили, тревожатся — не скисла бы.
— И наварили, тебя не спросилися. А что ж мы, такие ото всех проклятые, что нам и погулять нельзя? Да пропади они пропадом, картошки эти, пускай и померзнут, все одно нам не достанутся. Накопаем — ив город, накопаем — ив город. Безобразия какая. И я не подневольная никому, чтобы в свой честной престольный праздник в грязи ковыряться, спину гнуть. Не хочу и не буду, и другим не советую.
Она поплыла на свое место, красная и гордая. Все молчали. Сердюков толкнул Кирюшку ногой: выходи. Он не хотел поднимать руку, сама поднялась.
— Чекмасову слово, — объявил Попков.
Вышел, поехали перед глазами сплошные растягивающиеся лица.
— Хоша в моем семействе... — тоненько начал он, и пересекло дыхание. Замолчал, поник головой.