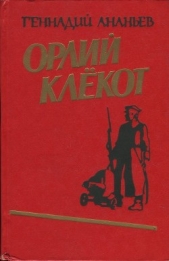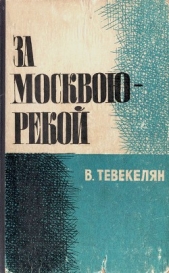Годы без войны. Том первый

Годы без войны. Том первый читать книгу онлайн
Роман Героя Социалистического Труда Анатолия Ананьева «Годы без войны» — эпически многоплановое полотно народной жизни. В центре внимания автора — важные философские, нравственные и социальные вопросы, тесно связанные с жизнью нашего общества.
Перед нами центральные герои двух книг романа — полковник в отставке Коростелев, ветеран партии Сухогрудов и его сын Дементий, молодой нефтяник, приехавший в Сибирь. Перед читателем проходит галерея образов наших современников, их внутренний мир, отношение к работе показаны цельно и емко, навсегда запечатлеваясь в памяти.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Но врачи-то что?
— Говорят, стрелка вверх...
— Это главное.
— А ты-то как?
— Тяну, Никанорыч, тяну, не сдаюсь. И не собираюсь пока сдаваться.
— Третьего дня заходил ко мне Борисенков, — снова начал Илья Никанорович, задвигав бровями на испитом морщинистом лице, как он делал всегда, прежде чем высказать то, что озадачивало его. Борисенков заведовал одним из отделов райкома — и при Сухогрудове, и все девять лет после него — и считался тем мягким и гибким, как говорят про таких, работником, которые одинаково хорошо могут чувствовать себя при любых переменах и с легкостью и изяществом тотчас опровергать то, что утверждали вчера; и при всей этой своей уживчивости, умении ладить с людьми они не прочь иногда поработать локтями, чтобы, оттолкнув впереди идущего, занять его место. О Борисенкове (хотя никто не мог ничего доказать) ходили именно такие слухи, и потому, едва лишь Илья Никанорович назвал его фамилию, Сухогрудов сейчас же настороженно наклонился к нему. — И зачем, думаешь, приходил? Он ведь зря ничьего порога не переступит. Галина-то пишет? Как оно там, в Москве?
— А что?
— По-моему, Борисенков что-то нехорошее узнал то ли про нее, то ли про ее сына.
— Глупости, — возразил Сухогрудов, отстраняясь и не желая говорить о падчерице.
Разговор о ней и прежде всегда бывал неприятен ему тем, что Галина представала в глазах его неудачницей, а он не терпел неудачливых людей. «Неудачлив только тот, у кого ни ума своего, ни сообразительности, — считал он. — А уж если его нет, соседский не вложишь». Он был против развода ее с первым мужем, от которого у нее как раз и остался сын Юрий, был против, когда она выходила за Арсения, потому что не почувствовал в нем ни политика, ни мужа, но затем точно так же возражал, когда Галина расходилась с ним, и говорил ей, что нельзя мотаться от одного к другому и третьему, а надо устраивать жизнь; ему совершенно непонятно было, для чего она после развода осталась в Москве, где не было ни родных, ни знакомых, ни достаточно крепких связей у него, ее отчима, чтобы помочь ей, и почему не вернулась в Мценск, где он раскрыл бы перед ней многие возможности. Писем он давно не получал от Галины, но из всех тех прежних, которые были скупы на разные житейские подробности, знал, что Юрий несколько раз намеревался бросить школу, самовольничал и что вообще Галина измучилась с ним.
— Так что же он узнал? — все же не выдержал и спросил Сухогрудов, опять наклоняясь и всматриваясь в блеклые и усталые уже от разговора глаза Ильи Никаноровича.
— Я бы сказал, да ведь он не тот человек, чтобы выболтать. Под нас ковырять — что? Мы и так на краю. Но этот мерзавец не может без пакости. Погоди, погоди, — добавил он, — ты подальше от районной жизни, я тут поближе и кое-что вижу и понимаю.
Та районная жизнь, на которую намекал теперь Илья Никанорович, была обычная предпленумная райкомовская обстановка, когда готовились утвердить нового первого секретаря райкома (прежний, в свое время сменивший Сухогрудова, уходил на повышение в область), и вокруг возможных кандидатур на этот пост шли разные толки за и против.
— Кого в первые прочат, знаешь? — спросил он.
— Нет.
— Лукина.
— Ивана, что ли?
— Именно!
Для Сухогрудова то, что он услышал (Лукин был первым мужем Галины), было настолько неожиданным, что он не сразу нашелся, что ответить болезненно смотревшему Илье Никаноровичу.
— Ну и что, — наконец сказал он, — дело прошлое.
— Прошлое, настоящее — важно прилепить горб, а потом иди разбирай. Я не знаю, как ты сейчас относишься к Ивану, но, по-моему, ты всегда раньше поддерживал его.
— По-родственному? — Сухогрудов усмехнулся.
— По-родственному ты бы должен придавить его за Галину. А ты не придавил, и это так тогда запомнилось людям. Мне, ты знаешь, никакой корысти в Лукине. Сват, брат, племянник там по двадцатой линии — все это вздор, плюнул и растер. Я ведь и тогда, если помнишь, ни слова тебе. Но мы же партийные билеты носим! И я не могу равнодушно смотреть, как будут ни за что ни про что топить человека. Ты не выгнал Борисенкова, а Иван выгонит, и Борисенков это знает. И потому непременно постарается наклепать. А дело это нехитрое: бросил жену, сына, когда — не важно, а важны плоды безотцовщины: то-то, то-то и то-то... аморально, непартийно, не чист в быту, так может ли такой человек учить других, как жить?
— Несешь ты, Илья. Это мы в свое время каждой анонимке кланялись, а теперь все по-другому.
— Ты уверен?
— Родственные струны позванивают в тебе. Не слышишь? А я слышу. Позванивают. Они и тогда тоже позванивали, да, да. А за Ивана, откровенно говоря, я рад. Он всегда мне казался толковым, и Галина сделала непоправимую глупость, что ушла от него. Дура, что скажешь? Пусть теперь покусает локти.
— Черт им тогда перебежал дорогу, — сказал Илья Никанорович, морщиня лоб, как будто собираясь с мыслями, чтобы возразить Сухогрудову. — Может, у Галины действительно какая-нибудь неприятность?
— Какая у нее неприятность? С Арсением не живет, что еще?
— А Юрий? Что она пишет?
— Ничего не пишет. Было бы, написала. Так что, думаю, вздор все, что твой Борисенков хочет затеять. А за Ивана рад, в нем что-то волевое есть, а?
«Что-то от нас», — молча взглядом добавил он, продолжая всматриваться в усталые глаза Ильи Никаноровича.
IV
Они еще поговорили о Лукине и Борисенкове, и когда Сухогрудов уходил, Илья Никанорович казался успокоенным; но как только за бывшим первым секретарем райкома закрылась дверь, все прежние опасения вновь как бы всколыхнулись в душе Ильи Никаноровича, и он, бессмысленно прижимая ладонь к боку, где были послеоперационные швы, принялся ходить по комнате. Он думал, что Борисенков непременно сделает пакость, и искал, как остановить его. В прежние годы Илья Никанорович ни за что не позволил бы себе заступиться даже за самого близкого родственника — так он понимал свою партийную принципиальность; но теперь, старея, он стал замечать, что принципиальность эта ничего не прибавляла ему в жизни и что, главное, никто как будто не придерживался ее. «Всем, так всем, а никому, так никому», — просто и определенно говорил он себе теперь. Он, казалось, радовался только тому, что племянник выходил в п е р в ы е; но вместе с тем событие это в сознании Ильи Никаноровича постоянно связывалось с теми его домашними делами, которые, постепенно накопившись, начинали уже обременять его и требовали решения. Сын собирался жениться, и надо было отделять его и думать о квартире; и надо было отделять дочерей, и пристраивать их, и делать еще десятки разных дел для родственников, которых у него, как и у Сухогрудова, было много и которые хотя и не просили, но, ясно было, ждали от него помощи. «Хорошо, что сказал, — думал он, время от времени подходя к окну и останавливаясь перед ним. — Вот в ком если уж нет корысти, так ее и нет». Он приоткрывал створку и наклонялся, чтобы увидеть Сухогрудова; но в беспорядочно движущейся по оживленной вечерней улице толпе не мог увидеть его.
Сухогрудов же, выйдя от Ильи Никаноровича, не сразу направился домой; миновав площадь, он вышел к зданию райкома, где давно уже никого не было, и, с минуту постояв перед знакомым крыльцом, той же дорогой через площадь зашагал к дому. Разговор со старым больным другом не оставил в нем какого-то одного определенного чувства, и Лукин и Борисенков не занимали его так, как они занимали Илью Никаноровича; по долголетнему партийному опыту он знал, что если обком утвердил какую-то кандидатуру, тем более на пост первого секретаря райкома, то изменить это решение ни Борисенкову, ни кому-либо другому не удастся. «Досадить могут, не больше», — полагал он. Но размышления о Лукине и Борисенкове наталкивали его на другие, более грустные мысли, и первое, что тревожило его, был вопрос о Юрии. По той странной и часто необъяснимой причине, чем больше теперь Сухогрудов думал о нем, тем сильнее убеждался, что Юрий несомненно что-то натворил и что Галина не написала только из гордости. «Вся в этом», — с обычной и уже не замечавшейся неприязнью к ней, какая с годами накапливалась и утверждалась в душе Сухогрудова, подумал он о Галине. Он несколько раз намеревался поехать к ней, но, пока собирался, желание угасало и разговор о поездке откладывался до следующего письма от нее. «Вся, вся в этом», — продолжал думать он, морщась от того неприятного чувства, что так и не съездил и ни в чем не помог падчерице. Вторым, что не только тревожило, но и раздражало его, были те давние воспоминания, связанные с Лукиным, когда Галина впервые привела его в дом и Сухогрудов, лишь несколько минут поговорив с ним, не то чтобы остался доволен встречей и разговором (и выбором Галины), но сейчас же составил то определенное мнение о молодом комсомольском работнике, что он умен, цепок, практичен, может и дом срубить и книгу написать, какое он редко составлял о людях и какое затем крепко держалось в нем; и вместе с тем как он сладковато и глухо радовался сейчас взлету Лукина, он с большей, чем когда-либо, и унижающей желчностью думал о Галине. Все прежние слова, какие говорил ей, когда она разводилась с Лукиным, и какими упрекал после, когда вдруг обнаружились первые неприятности с Арсением, готов был произнести ей резче и властнее, как будто Галина стояла перед ним. Есть люди, рассуждал он, которые более обращают внимание на то, кто что сказал, а не на то, кто что сделал; Галину он относил именно к тем, кому важнее было слово, чем дело. «А ты в суть, в корень», — строжась лицом, повторял он как будто не связанное с тем, что теперь думал о ней, но что было вполне ясно ему и вытекало из давних и болезненно памятных для него поступков падчерицы. Он шагал, не глядя по сторонам, сухощавый, высокий и стройный еще старик, и та энергичная работа мысли, какая происходила в нем, как раз и заставляла держаться прямо и молодила его. Он чувствовал себя, как в былые годы, наполненным жизнью; и хотя жизнь эта была, в сущности, прежние и нерешенные семейные неурядицы, но Сухогрудов был в Мценске, а не в Поляновке, и окружавшая его городская обстановка вызывала в нем именно это разбуженное ощущение деятельности.