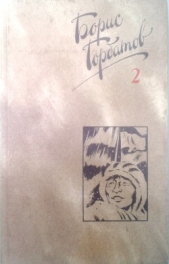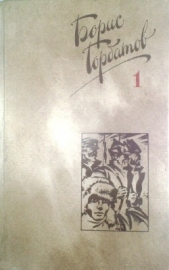Собрание сочинений в четырех томах. 4 том.

Собрание сочинений в четырех томах. 4 том. читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Нечаенко тревожно следил за ним.
— Что? Что? Я слушаю. Алло! Алло! — закричал Журавлев, потом недоуменно пожал плечами и опустил руку на рычаг. — Швырнул трубку!..
— Да что случилось-то? — спросил Нечаенко.
Журавлев медленно перевел на него глаза, помолчал немного, потом неохотно ответил:
— Рудин считает рекорд Абросимова очковтирательством...
— Что?! — закричал Нечаенко.
— Да, очковтирательством.
— Да он что, он что?.. — растерянно пробормотал Нечаенко. — Может, обиделся, что без него сделали?
— Не знаю, — медленно ответил Журавлев. Подумал и повторил: — Не знаю...
20
Второго сентября я прилетел в Донбасс и вечером уже сидел в кабинете секретаря шахтпарткома «Крутой Марии» Нечаенко.
В этот день радио передало заметку «Правды» о рекорде Стаханова. Я удивился: почему же, в таком случае, редакция посылает меня на «Марию», а не на шахту «Центральная — Ирмино»?
Я простодушно спросил об этом Нечаенко.
Он усмехнулся:
— А у нас на шахте рекорд Стаханова уже перекрыт...
— Да? Кем?
— Забойщиком Абросимовым.
— Могу я видеть его?
— Конечно. Когда вы хотите?
— А сейчас.
— Ишь вы, какой нетерпеливый! — засмеялся секретарь. — Сразу видать — газетчик. Впрочем, можно и сейчас. Я думаю, они оба дома.
— Кто «оба»? — не помял я.
— А вы что же, только об одном Абросимове хотите писать? — удивился Нечаенко.
— Ну, а о ком же еще?
— Я думал, что и об Андрее Воронько.
— А что, Воронько уже перекрыл рекорд Абросимова?
Секретарь с досадой передернул плечами.
— Вот дались всем эти рекорды! — сказал он. — Будто в рекордах все дело! Впрочем, идемте! Ручаюсь, что Абросимов сам заговорит о Воронько. Эта пара неделимая...
Он спрятал какие-то бумаги в несгораемый шкаф, запер его и сказал:
— Ну, идемте! — потом с легкой насмешливостью, к которой, однако, нельзя было придраться, посмотрел на меня и спросил будто невзначай: — А вам прежде-то доводилось бывать на шахтах? — Таким тоном обычно спрашивают пассажиров летчики перед полетом: «А вы летали?»
— Я родился тут, — кратко ответил я.
— Где?!
— Здесь, на «Крутой Марии».
— Вот ка-ак! — неопределенно протянул Нечаенко. Искоса посмотрел на меня, но больше ничего не сказал.
Мы вышли на улицу. Возле шахткома, под акациями, на скамейках, прочно врытых в землю, сидели люди. Вероятно, это собиралась на свое очередное заседание какая-нибудь лавочная комиссия шахткома или комиссия по охране труда. Так собираются по вечерам колхозники подле избы-читальни, красноармейцы — у ленинского уголка, родительский комитет — в учительской... Семь часов вечера — заветный час активистов. Нечаенко поздоровался с людьми, ему негромко ответили, и мы пошли по улице.
Был час тревожного заката — багрового и косматого. Солнце медленно и устало уходило за холмы, отработав свою дневную упряжку; у него был разгоряченный лик медно-красного цвета, как у солдата после жаркого боя...
Говорят, такие закаты бывают перед ветреным днем. Но в донецкой степи всегда ветер. И закаты здесь всегда тревожны — или это только кажется мне? — в них идиллии нет, а есть беспокойное томление и жажда нового дня... И нет вечерней тишины — все продолжает звенеть и лязгать вокруг. И по небу мечутся, затеняя самое солнце, рыжие, косматые, беспокойные дымы. И вместо ленивого вечернего благовеста гремит хор нетерпеливых гудков.
Не оттого ли здесь на закате и мечтается по-другому? И мечты к тебе приходят не вечерние, не елейные, не умильные, а буйно дерзкие и отважные, и мечтаешь ты не о собственном домике под акациями, а о переделке мира и счастье для всех... И всем, что совершил в жизни, ты уже недоволен, а во все, что хочется свершить, веришь, что сделаешь непременно. Не оттого ли так щедро рождает донецкая земля революционеров и новаторов? И Стаханов не оттого ли?.. Но, впрочем, это все мои домыслы. Мы молча шли по Конторской улице. Теперь она называлась проспектом Ильича.
— А я горняк молодой! — неожиданно сказал Нечаенко. — Я черноморец. Что? Плохо? — Он вдруг остановился и угрожающе посмотрел на меня.
— Нет, отчего же! Черное море? Совсем не плохо.
Он расхохотался:
— И я так думаю. Нет, не плохо! Я, знаете ли, — уже мирно и доверчиво продолжал он, — сын, внук и правнук рыбаков. Соленый! Камбалу нашу ели? А кефаль?
— И скумбрию тоже... — в тон ему ответил я.
— Ну, то-то!.. А сейчас считаю я себя коренным донбассовцем, от скумбрии отрекаюсь и предупреждаю вас — у Донбасса нет патриота более яростного, чем я.
— Вот как!
— Да! Так и знайте! А почему? Отчего? Вот вы здешний, объясните мне, что за сила в нашем крае? Чем он берет? — Он опять остановился и посмотрел на меня. Он принадлежал к той симпатичной породе людей, которые не умеют говорить на ходу, когда волнуются. — Чем он берет? — повторил он. — Ведь коренных, прирожденных донбассовцев здесь не так-то уж много... Народ все больше курский, орловский, смоленский, гомельский, татары, мордва... А проживет здесь человек три-четыре года и считает себя коренным донбассовцем, И гордится этим. Да как гордится!
— А что же? Донбассом гордиться можно. Он весь Союз греет.
— Да-а... — задумчиво произнес Нечаенко. — Крепко берет тебя за душу этот Донбасс. Здесь действительно всесоюзная кочегарка. Здесь всегда кипение, всегда жизнь. Нет! — тряхнул он головой. — Я теперь шахтерской веры! И учиться пойду только в Горный...
Мы пришли в общежитие, но наших героев не оказалось там. Даже дверь была заперта.
— Эх! — хлопнув себя по лбу, вскричал Нечаенко. — Да как же я так опростоволосился? Ну, ясно же! Кто ж в такой вечер будет дома сидеть? Идемте! Я знаю, где они. Идемте!
— Куда?
— В летний сад! Идемте! — заторопил он меня.
Я уже понял, что он человек непоседливый и беспокойный, и бесповоротно подчинился ему. Мы поспешили на улицу.
— Они в саду, это ясно! — уже на ходу продолжал Нечаенко. нетерпеливо размахивая руками. — Вечером весь народ там... на лоне... Идемте! — прикрикнул он, хотя я и так почти бегом следовал за ним. — Раз вы здешний — вы должны этот сад знать...
Да, я знал этот сад; некогда он назывался директорским. Там, за высоким забором, за колючей проволокой стоял двухэтажный дом нерусской архитектуры, с нерусской стрельчатой крышей и балкончиками; в нем жил директор-бельгиец с детьми — Альбертом, Эрнестом и Марией. Мы знали их имена потому, что чадолюбивый директор все новые шахты называл именами своих детей.
Никому из нас, ребятишек с «Марии», ни разу не удалось побывать в этом саду; мы только в щели заглядывали. И, может быть, именно потому, что глядели мы через щели в заборе, казался нам этот сад огромным миром чудес, сказкой Шехерезады. Все здесь для нас было невиданным чудом: и белокаменный дом с колоннами — «настоящий дворец!» — и лодки на зеркальном пруду, и цветники у фонтана, и непонятные, благородные игры, которыми забавлялись директорские дети (потом, когда сад стал нашим, рабочим, мы эти игры узнали — крокет и лаун-теннис), и сами молодые бельгийцы, немыслимо белые и нарядные, в белоснежных фланелевых брюках, натянутых, как струна... Даже эти брюки казались нам диковиной. Тогда никто у нас на шахте белых брюк не носил.
...Много лет прошло с тех пор, как я впервые — после Октября — попал, наконец, в этот сад; много чудесных садов и парков, куда более богатых, чем этот, перевидал я на своем веку; но только в этот всякий раз вхожу я с волнением и невольным трепетом — в сад моего детства, в первый сад, который предо мной. Сережкой Бажановым, мальчишкой с «Крутой Марии», распахнула революция...
Мы вошли в сад. Нечаенко не стоило большого труда отыскать нужных нам героев — их тут все знали, все видели. Через пять минут мы уже сошлись в беседке, в аллее старых лип.
Нечаенко представил меня, и ребята один за другим протянули мне руки:
— Абросимов.