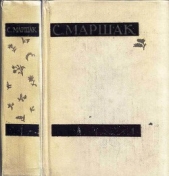Том 4. Письма. Семь лет с Бабелем (А. Н. Пирожкова)

Том 4. Письма. Семь лет с Бабелем (А. Н. Пирожкова) читать книгу онлайн
Данное издание — самое полное собрание сочинений Исаака Бабеля. В него вошли практически вся известная на сегодняшний день проза, драматургия, киносценарии, публицистика писателя и большой корпус писем. Все бабелевские тексты сопровождаются комментариями.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я выехала из Москвы в начале октября, в дождливый, холодный, совсем уже осенний день. Бабель встретил меня в Севастополе, и мы поехали в Ялту в открытой легковой машине по дороге с бесчисленным количеством поворотов. Бабель не предупредил, когда откроется перед нами море. Он хотел увидеть, какое впечатление произведет на меня панорама, открывшаяся неожиданно из Байдарских ворот. От восторга у меня перехватило дыхание. А Бабель, очень довольный моим изумлением, сказал:
— Я нарочно не предупредил вас, когда появится море, и шофера просил не говорить, чтобы впечатление было как можно сильнее. Смотрите, вот там внизу — Форос и Тессели, где была дача Горького, а вот здесь когда-то находился знаменитый на всю Россию и даже за ее пределами фарфоровый завод.
Сверкающее море, солнце, зелень и белая извивающаяся лента дороги — все это казалось невероятным после дождливой и холодной осени в Москве.
В первый же день по приезде, когда мы пошли в ресторан обедать, Бабель мне сказал:
— Пожалуйста, не заказывайте дорогих блюд. Мы обедаем вместе с Сергеем Михайловичем, а он, знаете ли, скуповат.
То была очередная выдумка Бабеля. У входа в ресторан мы встретились с Эйзенштейном и вместе вошли в зал. Тотчас какие-то туристы-французы вскочили с мест и стали скандировать: «Виве Эйзенштейн! Виве Бабель!» Оба были смущены.
Эйзенштейн, как одинокий в то время человек, завтракал то у нас, то у оператора снимающейся кинокартины Эдуарда Казимировича Тиссэ и его жены — Марианны Аркадьевны. За завтраком у нас Сергей Михайлович говорил: «А какие бублики я вчера ел у Марианны Аркадьевны!» И я с утра бежала в булочную, чтобы купить к завтраку горячих бубликов. В следующий раз он объявлял: «Роскошные помидоры были вчера на завтрак у Тиссэ!» И я вставала чуть свет, чтобы купить на базаре самых лучших помидоров. Так продолжалось до тех пор, пока мы не разговорились однажды с Марианной Аркадьевной и не выяснили, что Сергей Михайлович точно так же ведет себя за завтраком у них. Раскрыв эти проделки Эйзенштейна, мы с Марианной Аркадьевной уже больше не старались превзойти друг друга.
После завтрака Бабель и Эйзенштейн работали над сценарием. Бабель писал к этой картине диалоги, но участвовал и в создании сцен. Обычно я, чтобы не мешать, отправлялась гулять или выходила на балкон и читала. Часто они спорили и даже ссорились. После одной из таких довольно бурных сцен я, когда Эйзенштейн ушел, спросила Бабеля, о чем они спорили.
— Сергей Михайлович то и дело выходит за рамки действительности. Приходится водворять его на место, — сказал Бабель.
Он объяснил мне, что была придумана сцена: старуха, мать кулака, сидит в избе — в руках у нее большой подсолнух, она вынимает из него семечки, а вместо них вставляет спички, серными головками вверх; кулаки поручили эту работу старухе, подсолнух должен быть подброшен возле бочек с горючим на МТС, а затем один из кулаков бросит на подсолнух зажженную спичку или папиросу; серные спичечные головки воспламенятся, вспыхнет горючее, а затем и вся МТС.
— И вот старуха сидит в избе, — продолжает Бабель, — вынимает из подсолнуха семечки, втыкает вместо них головки спичек, а сама посматривает на иконы. Она понимает, что дело, которое она делает, совсем не божеское, и побаивается кары всевышнего. Эйзенштейн, увлеченный фантазией, говорит: «Вдруг потолок избы раскрывается, разверзаются небеса, и бог Саваоф появляется в облаках... Старуха падает». Эйзенштейну так хотелось снять эту сцену, — сказал Бабель, — у него и раненый Степок бродит по пшеничному полю с нимбом вокруг головы. Сергей Михайлович сам мне не раз говорил, что больше всего его пленяет то, чего нет на самом деле, — «чегонетность». Так сильна его склонность к сказочному, нереальному. «Но нереальность у нас нереальна», — закончил он.
Днем в хорошую погоду производились съемки «Бежина луга». Была выбрана площадка, построено здание для сельскохозяйственных машин, возле него поставлены черные смоленые бочки с горючим. Кругом была разбросана солома, валялось какое-то железо. Здание МТС имело надстройку-голубятню. У Эйзенштейна было режиссерское место и рупор. Мы с Бабелем иногда сидели вдали и наблюдали. Помню, участвовало в съемках много статистов, набранных из местных жителей.
Вечерами мы ходили в кинозал на просмотр заснятых днем кадров. Они были необыкновенно хороши. На фоне черного клубящегося дыма горящей МТС взлетающие белые голуби, белые лошади, белая рубаха Аржанова, играющего роль начполита МТС. Эйзенштейну хотелось этот фильм сделать в черно-белой гамме, как цветовое противопоставление светлого, счастливого и темного, мрачного. Он искал белых голубей, белых козочек, белых лошадей.
— Когда мы смотрели с вами пожар МТС, — сказал мне Бабель, — во время съемок нельзя было даже предположить, что получатся такие великолепные кадры, — вот что значит мастерство!..
Еще до поездки в Ялту, весной 1935 года, Эйзенштейн, Бабель и я ходили на спектакль китайского театра Мэй Ланьфаня. В антракте Сергей Михайлович решил пойти за кулисы.
— Возьмите с собой Антонину Николаевну, ей это будет интересно, — сказал Бабель.
И мы пошли.
Актеры были в отдельных маленьких комнатках — актерских уборных, босые, в длинных одеяниях — театральных и простых темных. Двери всех комнаток были открыты, актеры прохаживались или сидели. Сергей Михайлович, а за ним и я, со всеми здоровался, а они низко кланялись. С самим Мэй Ланьфанем Сергей Михайлович заговорил, как я поняла, по-китайски, и говорил довольно долго. Мэй Ланьфань улыбался и кланялся.
Я была потрясена. До сих пор я знала только, что Эйзенштейн владеет почти всеми европейскими языками. Возвратившись, я сказала Бабелю:
— Сергей Михайлович говорил с Мэй Ланьфанем по-китайски и очень хорошо.
— Он так же хорошо говорит по-японски, — ответил Бабель, рассмеявшись.
Оказалось, что Эйзенштейн говорил с Мэй Ланьфанем по-английски, но с такими китайскими интонациями, что неискушенному человеку было трудно это понять. Бабель же отлично знал, как блестяще Сергей Михайлович мог, говоря на одном языке, производить впечатление, что говорит на другом.
Однажды мы с Бабелем пришли к Эйзенштейну на Потылиху, где он жил. Нас встретила домашняя работница и когда мы, пройдя коридор и столовую, постучали к нему в кабинет, Сергей Михайлович спросил: «Бабель, вы один или с Антониной Николаевной?» Узнав, что Бабель привел меня, он произнес: «Одну минуточку» — и через некоторое время нас впустил. Комната была большая, с большим письменным столом; стены увешаны картинами и фотоснимками. И вдруг я увидела, что некоторые из них перевернуты обратной стороной. Так вот что делал Сергей Михайлович, прежде чем нас впустить! Любопытство меня одолевало, и, улучив момент, когда они увлеклись беседой, я быстро перевернула одну из картин лицевой стороной. На ней был изображен голый мужчина, очень толстый и волосатый, сидящий на стуле спиной к зрителю. Зрелище было неприятное, и я повернула изображение снова к стене.
В этот наш визит Сергей Михайлович показал нам разные сувениры, привезенные им из Мексики, и в том числе настоящих блох, одетых в свадебные наряды. На невесте — белое платье, фата и флердоранж; на женихе — черный костюм и белая манишка с бабочкой. Все это хранилось в коробочке чуть поменьше спичечной. Рассмотреть это можно было только при помощи увеличительного стекла.
— Это, конечно, не то что подковать блоху, но все же! Приоритет остается за нами, — пошутил Бабель.
В тот вечер Сергей Михайлович рассказывал много интересного о Мексике и о Чаплине, с которым был хорошо знаком. Запомнилось, как Чаплин на съемках не щадил себя и если в картине он должен был упасть или броситься в воду, то десятки раз проделывал это, отрабатывая каждое движение.
— Так же беспощаден он, — говорил Эйзенштейн, — и к другим актерам.
Сергея Михайловича Эйзенштейна, которого Бабель в письмах ко мне именовал «Эйзен», он очень уважал, считал его гениальным человеком во всех отношениях и называл себя его «смертельным поклонником». Эйзенштейн платил Бабелю тем же: он высоко расценивал его литературное мастерство и дар рассказчика; очень хвалил пьесу «Закат», считал, что ее можно сравнить по социальному значению с романом Золя «Деньги», так как в ней на частном материале семьи даны капиталистические отношения, и очень ругал театр (МХАТ II), который, по мнению Эйзенштейна, плохо поставил пьесу и не донес до зрителя каждое слово, как того требовал необычайно скупой текст.