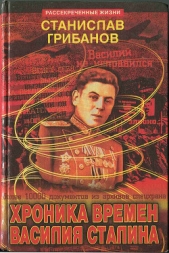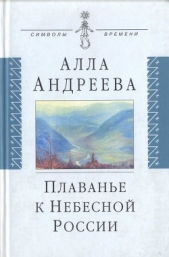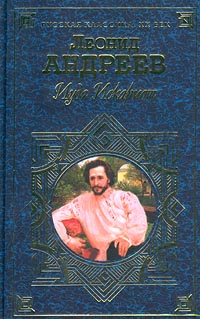Канун
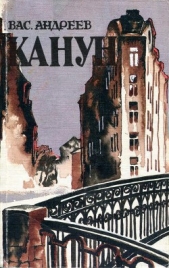
Канун читать книгу онлайн
Творчество талантливого прозаика Василия Михайловича Андреева (1889—1941), популярного в 20—30-е годы, сегодня оказалось незаслуженно забытым. Произведения Андреева, посвященные жизни городских низов дооктябрьских и первых послереволюционных лет, отражающие события революции и гражданской войны, — свидетельство многообразия поисков советской литературы в процессе ее становления.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Бывает: в трамвае, поезде, театре или просто на улице какой-нибудь человек обращает на себя всеобщее внимание.
Все смотрят на него с каким-то особенным интересом, не похожим на то любопытство, какое возбуждает красивый или, наоборот, уродливый человек.
В таких людях главное — не внешность, а что-то другое, что не поддается определению.
И говорят о таких людях ничего не говорящее:
— Интересный человек.
Руки Романа Романыча дрожали, и брил он не лихорадочно и порывисто, как всегда, а медленно и неуверенно, словно работал в первый раз. Он сам удивлялся своему непонятному волнению.
С клиентом в сером костюме был еще человек. Он не брился и не стригся, а сидел и разговаривал с приятелем:
— Ты говоришь — «Заря Востока»? — спросил он, очевидно продолжая прерванный разговор.
Роман Романыч подумал: «„Заря востока“ — пьеса так называется. Наверно, опера».
И обратился к клиенту, стараясь говорить как можно изысканнее:
— Извиняюсь за нескромный вопрос: в каком театре, понимаете ли нет, идет сейчас «Заря востока»?
Клиент удивленно приподнял тонкие, слегка срастающиеся брови, и белое лицо его порозовело.
Он хотел что-то ответить, но его приятель сказал громко и отчетливо:
— Конечно, в Большом оперном.
Брея, Роман Романыч терялся в догадках, кто его клиент, и ему хотелось узнать это.
Молодое бритое лицо, светлые, кудрявые волосы, элегантный костюм — по всему этому Роман Романыч заключил, что клиент — артист.
Приятель клиента тоже напоминал актера: толстый, бритый, с помятым лицом; голос громкий и звучный, хотя несколько сиповатый.
«Заграничный артист, — подумал Роман Романыч о клиенте, — немец, по всему видать».
Когда посетители уходили, Роман Романыч не утерпел и спросил:
— Извиняюсь, понимаете ли нет, вы — русские?
— Кто — я? — спросил клиент, а приятель его сказал:
— У него костюм парижский, шляпа из Лондона, а трость американская, но сам он чистокровный русак, но такой русак, что ай-я-яй! Отдай все, да и мало!
А когда оба они ушли, Роман Романыч вышел и, стоя у дверей, на ступеньке, стал смотреть им вслед.
Слегка вздернув голову, легко и пружинисто, словно танцуя, шел человек в сером костюме, отталкиваясь от земли вздрагивающей тростью.
Не только Роман Романыч, но и Алексей и Таисия были в некотором волнении.
— Откуда такие взялись? — говорил Алексей. — Это не из нашего квартала.
— У нас такой интеллигенции нет, — сказал Роман Романыч, — случайно сюда попали. Фланировали. Артисты. Свободный народ.
— А как он на вас похож, Роман Романыч!
Таисия зарделась и добавила:
— Будто ваш брат родной.
После слов Таисии Роман Романыч с радостным волнением вспомнил, что клиент действительно очень на него похож.
Такие же золотистые кудрявые волосы, светлые глаза, красивое, почти юношеское лицо.
Вспомнил, что когда брил его, наклонялся над ним, то лицо клиента напоминало что-то далекое и трогательно-дорогое…
Не детство ли?
Пухлые детские губы, лучистые глаза, веселые золотистые кудри — все это было так дорого, близко, что Роман Романыч несколько раз прерывал работу и задумчиво вглядывался в лицо клиента.
Теперь Роман Романыч подошел к зеркалу и, всматриваясь в свое отражение, подумал: «Такой бы вот костюмчик приобрести».
И ему стало трепетно-весело и легко.
Было воскресное утро.
Портной Сыроежкин проснулся с сильной головной болью.
Накануне Сыроежкин наделал дел: пропил два рубля, предназначенные для покупки саржи, набуянил в пивной и был оттуда выброшен официантом Спирькою, грубым детиной, носящим нежное прозвище Отец родной; дома, когда Дарья Егоровна, увидя, что муж — без саржи и пьян как стелька, принялась его ругать, он пытался совершить то, о чем раньше боялся и думать, а именно: побить жену.
Этот безумный, поистине геройский шаг оказался на деле покушением с негодными средствами и, погибнув в самом зародыше, повлек за собою все вытекающие отсюда последствия.
Так, Сыроежкин только сжал кулаки и заскрипел зубами, и на этом его роль кончилась.
Все же остальные действия, обыкновенно следующие за таким воинственным началом, производила уже исключительно Дарья Егоровна, а Сыроежкин, загнанный в угол, прятал голову от жениной туфли, слезно моля о пощаде:
— Егоровна! Золотце! Пожалей! По существу, бить-то некого, сама видишь.
Теперь, проснувшись и прислушиваясь, как шуршит по полу веник и грузно шлепают босые ноги жены, Сыроежкин припоминал подробности происшествий вчерашнего дня.
«Черт меня дернул сцепиться с этой лошадью, — думал Сыроежкин, укрываясь с головою и ощупывая запухший левый глаз. — Ишь топочется, толстопятая!»
Вспомнил, что жена вчера посулила с трезвым с ним поговорить по-настоящему.
«Неужели опять поднимет баталию? Это уж неправильно. За одно дело двух наказаний не полагается».
Эту мысль Сыроежкин скрепил одним из своих любимых выражений и, подбодренный им, как верующий молитвою, сбросил с лица одеяло, намеренно громко зевнул, сел, спустил с высокой кровати кривые, не достающие до пола ноги и, беззаботно болтая ими, сказал:
— Э-эх! Толково поспал!
Дарья Егоровна бросила подметать. Тяжело ступая по скрипящим половицам, не торопясь, приблизилась к кровати и, упершись в широкие бедра толстыми красными руками, в одной из которых был веник, устремила на мужа полный сурового презрения взгляд.
Глядя на веник, Сыроежкин подумал: «Веником еще туда-сюда, кулаком — хуже. Кулачища у ней — что булыжники».
Глубоко вздохнув, ежась под взглядом супруги, потянул к себе брюки, висевшие на спинке кровати.
Дальше пошел такой разговор:
— Ну что, хулиган несчастный? Очень хорошо поступаешь, да?
— Что такое? — удивленный вопрос.
— Что-о? Наклюкался, денежки профукал, а потом женке в морду лезешь!
— Оставь, Егоровна. Мало ли что по пьянке бывает. Известно, у пьяного разум ребячий.
— Нет, извини, милый мой! Небось, об стенку башкой не треснешься, а в харю норовишь заехать. Ты эту моду забудь. Я твое геройство живо из тебя выкурю.
— Ну вот! Теперь — геройство. Ну что я тебе мог сделать? Мне и до хари-то до твоей не достать. Вона ты какая! Прямо, можно сказать, памятник.
Самолюбию Дарьи Егоровны льстило признание мужем ее могущества; особенно понравилось сравнение ее с памятником, но она решила для блага будущего нагнать на мужа побольше страха, а потому подступила к мужу вплотную и сильно повысила голос:
— Так чего ж ты кидаешься на больших людей, карлик ты паршивый, заморыш? Это я тебе воли много даю! Извольте радоваться! Пошел за прикладом, а заместо того нализался да еще драться лезет, козявка! Я не посмотрю, что сегодня праздник! Я тебя, мыша такого, пяткой раздавлю!
Она угрожающе потрясла веником и так топнула своей могучей ногой, что в шкафу зазвенела посуда, а у Сыроежкина замерло сердце, из глаз закапали слезы, а в голове пронеслось: «Убьет, кобыла, раздавит».
Но в этот момент послышался стук в двери.
— Сейчас! — крикнула Дарья Егоровна и, поспешно всунув широкие ступни в туфли, зашлепала к дверям, раскачивая крутые, тяжеловесные бедра.
Дрожащий герой перевел дух и стал одеваться.
В комнату вошел Роман Романыч, празднично одетый, пахнущий одеколоном.
С Дарьей Егоровной он поздоровался галантно: шаркнул ногою и низко склонил голову, с Сыроежкиным — снисходительно.
— Мое почтение, уважаемый! Здрасте, мой дорогой!
Сел на предложенный Дарьей Егоровной стул и сразу приступил к делу.
— Хочу заказать, понимаете ли нет, костюмчик. Серый. Но чтобы фасон настоящий парижский. У меня один знакомый приехал из Парижа. И серый костюмчик у него — шикарный. Прямо, понимаете ли нет, крик моды.
— Парижского материала тут не достать, — угрюмо сказал Сыроежкин.
— Н-да, — вздохнул Роман Романыч. — Коверкот надо бы.