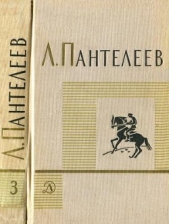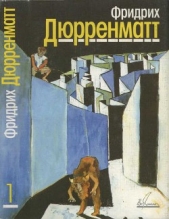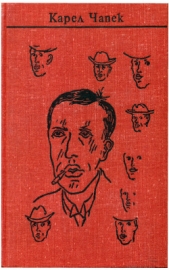Том 3. Рассказы. Воспоминания

Том 3. Рассказы. Воспоминания читать книгу онлайн
В настоящее четырехтомное собрание сочинений входят все наиболее значительные произведения Л. Пантелеева (настоящее имя — Алексей Иванович Еремеев).
В третий том вошли рассказы о детях, маленькие рассказы, литературные портреты, одноактные пьесы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И, как часто это бывает с людьми, никогда раньше не хворавшими, он очень трудно переносил те болезни, которые вдруг свалились на него в преддверии старости.
Собственно говоря, одна болезнь мучила его всю жизнь — во всяком случае, с тех пор, как я его помню. Кажется, это называется тремор. У него дрожали руки. Болезнь, конечно, не такая уж опасная, но она доставляла ему очень много маленьких огорчений.
Почерк у него был совершенно невообразимый — через две недели он сам не понимал того, что написал. И чем дальше, тем ужаснее и неудобочитаемее становились его каракули, — последние страницы «ме» вообще не поддаются расшифровке…
Руки у него не дрожали, а прыгали. Чтобы расписаться в бухгалтерской ведомости или в разносной книге почтальона, он должен был правую руку придерживать левой. Рюмку брал со стола, как медведь, двумя руками, и все-таки рюмка прыгала, и вино расплескивалось.
Однажды, еще в довоенные годы, он выступал по ленинградскому радио. Я уже говорил, каким замечательным оратором, импровизатором был Евгений Львович. А тут сижу у себя дома, слушаю в репродуктор нашего милого Златоуста и не узнаю его, не понимаю, в чем дело. Он запинается, мычит, волнуется, делает невероятной длины паузы.
Заболел, что ли?
Вечером мы говорили с ним по телефону, и я узнал, в чем дело. В то время существовало правило, по которому выступать перед микрофоном можно было, только имея в руках готовый, завизированный текст. Первый, кому разрешили говорить без готового текста, был Николай, митрополит Крутицкий. Упоминаю об этом потому, что впервые слышал этот рассказ именно от Шварца. В начале войны митрополита попросили выступить по радио с обращением к верующим. В назначенное время известный деятель православной церкви прибывает в радиостудию, следует в помещение, где стоит аппаратура. У него деликатно спрашивают:
— А где, ваше преосвященство, так сказать, текстик вашего доклада?
— Какого доклада? Какой текстик?
— Ну, одним словом, то, что вы будете сейчас произносить в микрофон.
— А я, милые мои, никогда в жизни не произносил своих проповедей по бумажке.
Слова эти будто бы вызвали сильную панику. Позвонили туда, сюда, дошли до самых высоких инстанций. И там решили: «Пусть говорит, что хочет».
А у Евгения Львовича дела обстояли похуже. Правда, порядки того времени были ему известны, и он заблаговременно приготовил, отстукал на машинке две или три странички своего выступления. Но, на его несчастье, выступать ему пришлось в радиотеатре, на сцене, где микрофон был вынесен к самой рампе и перед ним не стояло ни столика, ни пюпитра, вообще ничего, на что можно было бы опереться или положить завизированные, заштемпелеванные листочки. И вот чуть ли не целый час бедный Евгений Львович на глазах у публики мужественно боролся со своими руками и с порхающими по сцене бумажками.
— Никогда в жизни не испытывал такой пытки, — говорил он вечером в телефон.
Но это, конечно, не было ни пыткой, ни болезнью. Настоящие болезни пришли позже, лет двадцать спустя.
Обычно недуги, как известно, подкрадываются, и подкрадываются незаметно. Тут было по-другому. Был человек здоров, курил, пил, купался в ледяной воде, ходил на десятикилометровые прогулки, работал зимой при открытом окне, спал, как ребенок, сладко и крепко — и вдруг сразу всему пришел конец.
Конечно, не совсем всему и не совсем сразу, но все-таки быстро, ужасно быстро протекала его болезнь.
Началось с того, что Евгений Львович стал болезненно полнеть и стал жаловаться на сердце. В разговоре появились слова, о каких мы раньше не слыхивали: стенокардия, бессонница, обмен веществ, валидол, мединал, загрудинные боли… В голубом домике запахло лекарствами. Чаще, чем прежде, можно было встретить теперь в этом доме старого приятеля Шварцев, профессора А. Г. Дембо.
С тучностью Евгений Львович боролся. По совету врачей стал заниматься своеобразной гимнастикой: рассыпал на полу коробок спичек и собирал эти спички, за каждой отдельно нагибаясь. Позже, и тоже по рекомендации врача, завел велосипед, но ездил на нем нерегулярно и без всякой радости. Шутя говорил, что вряд ли и водка доставит человеку удовольствие, если пить ее по предписанию врача и покупать в аптеке по рецепту.
Все чаще стали приходить мысли о смерти. И говорил он теперь о ней тоже гораздо чаще.
Несколько раз он признавался мне, что ненавидит Комарово, что места эти вредны ему, губят его. Последние два года он жил там только ради жены. Екатерина Ивановна любила свой голубой домик, свой маленький сад, цветы, возделанные ее руками. А он — чем дальше, тем больше относился ко всему этому неприязненно, даже враждебно, однако не жаловался, молчал, терпел, только все грустнее становились его глаза, и уже не искренне, а натужно, деланно посмеивался он над собой и над своими недугами.
Комарово он не мог любить уже за одно то, что там свалил его первый инфаркт и вообще начались все его беды. А тут еще некстати прошел слух, будто места эти по каким-то причинам сердечным больным противопоказаны. Была ли правда в этих разговорах — не знаю, но не сомневаюсь, что в этом случае, как и во многих подобных, Комаровскому климату успешно помогала мнительность больного. Евгений Львович верил, что в городе ему станет лучше, что там он поправится. И я никогда не перестану ругать себя, не прощу ни себе, ни другим друзьям Шварца, что мы не собрались с духом и не настояли на его своевременном переезде в Ленинград. Переехал он туда, когда было уже совсем поздно.
Человек, казалось бы, очень городской, кабинетный, домашний, он с большой и неподдельной нежностью относился к природе, любил, понимал и тонко чувствовал ее. Охотником и рыболовом никогда не был, но обожал ходить по грибы, по ягоды или просто бродить по лесу. Пока он был здоров, мы закатывались с ним, бывало, километров за десять — двенадцать от Комарова, бывали и на Щучьем озере, и на озере Красавица, и за старым Выборгским шоссе, и за рекой Сестрой. Большими компаниями ходили редко, на природе он шумного общества избегал, в этих случаях ему нужен был собеседник. Если собеседника не находилось, гулял один или со своей любимицей — пожилой, толстой и некрасивой дворняжкой Томкой.
Вот сидишь, работаешь у себя в келье, в Доме творчества, и вдруг слышишь — где-то еще далеко за дверью повизгиванье собаки, позвякиванье ошейника, потом грузные шаги, тяжелое дыхание. Косточки пальцев постучали в дверь, и милый грудной голос спросил:
— Можьня?
Это он так со своей воспитанной, дрессированной Томочкой разговаривал, разрешая ей взять что-нибудь — конфету, косточку, кусочек мяса:
— Можьня!
Шумно и весело, как волшебник, входит — высокий, широкий, в высокой, осыпанной снегом шапке-колпаке, румяный, мокрый, разгоряченный. Собака поскуливает, натягивает поводок, рвется засвидетельствовать почтение. А он наклоняется, целует в губы, обдает тебя при этом свежестью зимнего дня и несколько смущенно спрашивает:
— Работаешь? Помешал? Гулять не пойдешь?
Трудно побороть искушение, отказаться, сказать «нет»! Смахиваешь в ящик стола бумаги, одеваешься, берешь палку и идешь на прогулку — по первому снегу, или по рыжему ноябрьскому листу, или по влажному весеннему песочку.
Если в Доме творчества гостил в это время Леонид Николаевич Рахманов, соблазняли попутно его и шли втроем…
…Ходили в Академический городок или в сторону озера, чаще же всего, спустившись у черкасовской дачи к морю, шли берегом до Репина, там, у композиторского поселка, поднимались наверх и лесом возвращались в Комарово. Сколько было хожено гуськом по этим извилистым, путаным лесным тропинкам, где, вероятно, и сегодня я смог бы узнать каждый камень, каждый корень под ногами, каждую сосенку или куст можжевельника… И сколько было сказано и выслушано. И сейчас, когда пишу эти строки, слышу за спиной его голос, его смех, его дыхание…