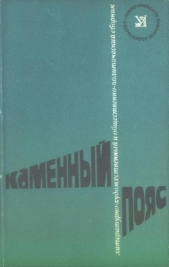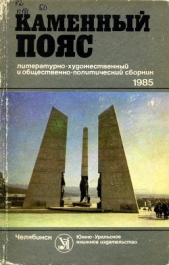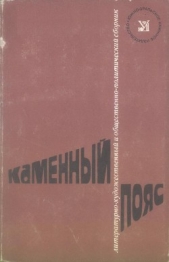В копровом цехе вечный кавардак:
железо всех времен, мастей, обличий,
то паровоз подкатится сюда
с утробной паровою перекличкой.
То подвезут бескрылый самолет
в горячке отзвеневшего дюраля,
то на вагоне катер приплывет —
всех под резак, и словно не бывали.
Порой Степану чудилось, что он
палач вот этих горемык железных,
не попусту коптивших небосклон —
проживших век двужильно и полезно.
Он опускал на землю бензорез,
влезал наверх, откуда тишь стекала,
и громыхал хозяйский интерес
по мостикам ботинками Степана.
В его обходе, ревностном и злом,
рассерженно сминалось безразличье:
— Труда-то сколько!
И опять на слом…
Но все же вскоре вспыхивала спичка.
А бензорез врезался в кругляки,
обшивку и натруженные скаты,
и паровоз, напыщенный когда-то,
валился от Степановой руки.
Да мало ли таких со всей страны
летят к нему, попыхивая рьяно?
Им раньше явно не было цены,
а нынче есть —
и та не по карману.
Дешевле вжать в тысячетонный пресс
уютные, обжитые кабины
и рычагов тридцатилетний блеск…
— Ломай, Степан, работай —
все едино!
Так думал он размашисто, спроста,
покуда к серым колоннадам цеха
из памяти тревожной не приехал
особенный, приземистый состав.
Степан присел у танка, закурил.
Пробоины, заклиненная башня…
И словно лбом ударясь в день вчерашний,
на башенке он цифры отличил:
602-й…
И дернулась рука,
и налегла на воздух как на тормоз.
602-й в разорванных боках
привез войною срезанную скорость.
602-й…
И задохнулся он.
Да, в нем они, заклинены навечно!
Он за бронею слышал каждый стон,
И жаркое дыханье человечье.
Он рвал броню упругим резаком,
как будто вдруг из танковой утробы
они шагнут светло и шлемолобо,
сомнут войны погибельный закон.
Гудело пламя, взламывая танк,
томилось небо без дождя и вздоха…