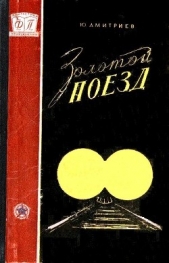Хранители очага: Хроника уральской семьи

Хранители очага: Хроника уральской семьи читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Учись — первая заповедь мирной жизни. А вот к учебе, к долгому собиранию себя по крохам он был не способен — тут нужна не вспышка, тут нужен поистине мужской характер, способный тянуть лямку годы и годы. На заводе удивлялись: как так, пришел из армии прославленный солдат, а в работе — то огнем горит, то дымом чадит?! Он один знал о себе правду: в кропотливости ежедневного труда — не быть ему героем. Да ведь и жажда утвердить себя первым — ой какая страстная жажда! И — утвердил себя! Кто первый в городе яхтсмен? Кто первый в городе «справедливый» хулиган? Кто первый на заводе трудяга-бунтарь? Хватало подтверждения собственной незаурядности…
И вот потому-то сейчас так польстили Глебу эти наивные пацанята, и он тут же проникся к ним своеобразной признательностью:
— Слушай, шкет, внимательно! — сказал он парнишке. — Приходи весной на пруд. Сделаю из тебя человека. Зарубил?!
— Зарубил.
— Ну вот так. Пока.
Они были уже дома, в тепле, когда пришли Марья Трофимовна с Серафимой. Бабушка сразу осмотрела Маринку и, видя, что одета она тепло — сухие валеночки, шерстяные колготки, свитерок, носом не шмыгает, головка не горячая, успокоилась и больше о Маринке не вспоминала. Она думала: хорошо, что они с Серафимой прошли пешком, на душе не то что легче, а как-то спокойней стало. За всю дорогу они сказали с Серафимой несколько слов, но не это главное — они чувствовали, что они сейчас как одно целое, неделимое, у них одно горе, одна утрата. Может быть, единственное, что Марью Трофимовну слегка настораживало в собственных чувствах, — это некоторая странная, сама себя успокаивающая мысль: ну что теперь поделаешь, когда-нибудь должно было это случиться. Чему, как говорится, быть, того не миновать; отец, слава богу, прожил долгую, сложную, честную жизнь, пожил немало. В этом, в этих мыслях, понимала Марья Трофимовна, было нечто оскорбительное — бессознательно оскорбительное — по отношению к любой жизни, а тем более к жизни отца, но что делать, если в глубине души — глубоко-глубоко-глубоко — было и горе, и слезы, и горечь, и жалость, и чувство внезапной осиротелости, но не было отчаяния, того мучительного, страшного, парализующего отчаяния, какое переживала, например, мать. В чем тут причина, — в том ли, что сама жизнь, когда она относительно долгая, твердо, властно внушает человеку мысль о неизбежности и о смирении перед смертью, или в том, что собственная жизнь замотала, захлестнула ее своей непосредственностью, или в том, что вообще с годами притупились чувства, — трудно сказать, скорей всего — тут все сразу, с возрастом в человеке вырабатывается как бы внутренняя самозащита против смерти родителей: чем они старше, когда умирают, тем менее чувствительна боль утраты…
На все то, что творилось в другой комнате, где были старушки, старички, незнакомые люди, где стоял тихий говор, слышалось слабое звяканье ложек и вилок о тарелки, Маринка реагировала как хитрый, любопытный лисенок — выглянет из своей комнаты, повертит головкой, стрельнет глазками туда-сюда — и спрячется в кипе пальто, которыми завешали всю стенку. Олежкина мать, бывшая сегодня за распорядителя, бегала из кухни в большую комнату и обратно — то с едой, то с винами, то с посудой, иногда на ходу бросала:
— Марина! Олежка! А ну марш в свою комнату! — как будто они и так были не в своей комнате. Но, в общем, Олежкина мать говорила это скорее машинально, в пылу спешки и забот, чем действительно строго и разгневанно, каким был ее голос.
И потом — Маринка была смелая, а Олежка — трус; она выглядывала, а он только так, делал вид, что тоже выглядывает, а сам нисколько не выглядывал, а просто жался к пальто. Он шепнул Маринке:
— Страшно… А тебе?
— Нисколечки!
— Вот и врешь, врешь, врешь… — прошипел-прошептал Олежка, а она сказала громко:
— Да? Да? Олежка-Карлежка!..
— А ну тише, малышня! — прикрикнул Сережа; он лежал на кровати, сложив ноги на спинке кровати, руки положив под голову; он лежал так уже давно. — Брошу школу, пойду в профтехучилище. Летом, — говорил он Свете.
— Да, да, да! — сказала Маринка, обращаясь больше к Светлане, Серафиминой дочери, чем к Сереже. — Скажи ему, Света, кого не спрашивают, тот не сплясывает.
— Ну, муха, дожужжишься у меня, — пригрозил лениво Сережа. — Брошу… — продолжал он для Светы.
— Ну и дурак будешь, — сказала Света. — Нет, правда, Маринка, — сказала она уже ей, — потише вы. Сегодня такой день, а вы шумите…
— А мы совсем не шумим, Света. Он мне говорит: страшно, а я говорю: не страшно.
— Ничего вы еще не понимаете, — вздохнула Света, оторвавшись от книжки и посмотрев в окно. Она книжку не читала, а просто перелистывала ее, некоторые строчки читала, но они проходили мимо сознания, как бы проплывали перед глазами в тумане; порой одна-две слезинки капали на странички, и Света особенно старательно отворачивалась к окну.
Иногда к ним в комнату приходил кто-нибудь из взрослых, садился и молчал, а если спрашивал о чем-то, то непонятно, для чего спрашивал, потому что не прислушивался к ответам, — и так почти все, кто заходил сюда. Исключением была Олежкина мать; она, когда немного освободилась, принесла к ним в комнату много-много разных пирогов, особенно Маринка любила хворост и вафли (домашние), которые стряпала три дня назад сама бабушка Настя. «Ох, любил он их, сердешный, — приговаривала она, когда стряпала, — вафли-то эти, только чтоб мягкие были, чтоб попышней… Встал бы вот, отведал, может, сказал бы что… мол, эх, старуха, старуха…» Позже бабушка Настя совсем занемогла и слегла в постель. Она лежала сейчас в отдельной комнате, к ней заходили только Марья Трофимовна и Серафима. Олежкина мать, когда нанесла им пирогов, а потом заварила крепкого чая, села вместе с ними за стол, и хотя Сережа и Света были хмурые и молчаливые, Олежкина мать бодро, как бы слегка подсмеиваясь над ними, разговаривала с Маринкой и Олежкой. Приговаривала:
— Тебе вот это. Обязательно съешь. А тебе — вот это. Чтоб все до крошки съесть. Это за дедушку Трофима. Любила дедушку?
— Любила, — кивая головой, с набитым ртом отвечала Маринка, отпивала чай и смешно отмахивалась руками: — Уф, уф, горя-чий!..
— Обожглась?! — улыбалась Олежкина мать. — Ну ничего, до свадьбы заживет. Заживет?.. — И, не дожидаясь ответа, снова улыбалась и гладила Маринку по голове, а Олежка ревниво следил за матерью и со странной тоской в глазах отворачивался от них. — Ишь, бутуз, — говорила Олежкина мать. — Надулся. А чего надулся? И сам не знаешь. Вот смотри, лопнешь еще…
Нравилась Маринке Олежкина мать, у нее была такая теплая, ласковая ладошка и глаза добрые с веселинкой и с чертиками, вот у мамы тоже так бывает — какие-то там как будто чертики пляшут, блестинки сверкают, когда она смеется; и вообще Олежкина мать напоминает маму, только мама похожа на девочку, а Олежкина мать — настоящая тетенька. И как раз когда с ними сидела Олежкина мать, в комнату вошла Марья Трофимовна; Олежкина мать сразу же подставила ей стул, показала рукой: присаживайся к нам, посиди, посиди с нами. Марья Трофимовна присела, но как бы не обращала ни на кого внимания, сидела и молчала.
— Ну, ничего, ничего, — сказала Олежкина мать.
— Бабушка, — сказала Маринка, — поешь пирога. Вот этот. Этот дедушка Трофим любил.
— Вот что жалко-то… — вздохнула Марья Трофимовна. — Жалко, не дожил немного. Золотую свадьбу им с мамой хотели сыграть…
— Это, конечно. Понятно… — кивнула Олежкина мать. — Это всегда так в жизни бывает. Чего меньше всего ждешь, то и случится. Вы выпейте, выпейте, правда, чайку.
— А с другой стороны, — говорила как бы сама с собой Марья Трофимовна, — уж чему быть, того не миновать. Значит, судьба.
— Да что же, что судьба, — сказала Олежкина мать. — Мало ли судьба. Если судьба, то могла бы и подождать. Когда ни случится, все равно судьба, значит, можно и подождать.
— Бабушка, ну почему ты ничего не ешь? Такие вкусные пироги… правда, Олежка?
Олежка кивнул, а Марья Трофимовна сказала: