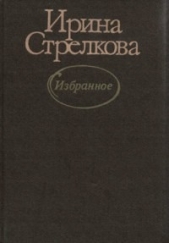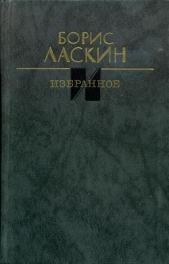Избранное

Избранное читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Но я ничего не имею против, — поспешно добавила Машенька, — в конце концов я — одна, мне немного нужно, а брат сейчас не служит и…
— А он у вас кто? Тоже историк, как и отец?
— Нет. То есть да. Он историк искусства. Он учился в Академии художеств, очень способный, но он… он болен.
Она замолчала.
— И он что же, — спросил Лев Иваныч, — не возражает против такого раздела?
— Нет. То есть он… он ничего не понимает в делах. У него есть друг. Вот тот понимает.
— Ага, — сказал Лев Иваныч.
Дело в том, что после смерти отца осталась большая библиотека. Очевидно, она теперь перейдет к брату, а все остальное имущество — пополам, между Машенькой и его женой. И вот этот друг… Его фамилия Неворожин…
— Слышал, — сказал Лев Иваныч.
…занимается сейчас разборкой архива. Это очень хорошо, если бы он был человеком честным. К сожалению, Машенька в этом не уверена. То есть она даже уверена в обратном. Кто может поручиться, что, уходя, он не уносит с собой каких-нибудь бумаг? Вот теперь к ним повадились какие-то подозрительные люди. Оборванец…
— Оборванец?
Да, такой высокий, с заплечным мешком, в пенсне. Он ходит почти каждый день. Что они там делают вдвоем в архиве? Дима говорит, что это известный антиквар. Может быть. Но она нисколько не удивится, если этот известный антиквар украдет половину архива. В самом деле, что там в его заплечном мешке? В Публичной библиотеке, например, портфели, чемоданы и сумки принято оставлять у швейцара.
— Словом, я бы сейчас же уехала, — вдруг закончила Машенька, — если бы не было жалко брата.
— Куда же?
— К подруге.
Лев Иваныч прошелся по комнате мелкими, но твердыми шагами.
— Нет, вам уезжать нельзя, — остановись перед Машенькой, строго сказал он, — хотя я и понимаю, что вам сейчас живется очень худо.
Машенька опустила голову.
— Нет, мне живется… — начала она и замолчала. Лицо ее дрогнуло, но она справилась со слезами.
Карташихин тихонько взял ее за руку. Сердито — но так, чтобы он понял, что она сердится на себя, а не на него, — она отняла руку и вынула носовой платок. Все это очень понравилось Льву Иванычу: и как она справилась со слезами и как высморкалась, энергично и шумно.
— Вот что вы мне теперь объясните… Это что же, окончательно решено, что библиотека переходит к вашему брату, а все остальное пополам?
— Нет. То есть да. Почти.
Лев Иваныч развел руками.
— А на бумаге-то закреплено?
— Нет.
— Это лучше, — пробормотал Лев Иваныч. — Ну, вот что, дети, — сказал он и обнял их за плечи, Карташихина одной рукой, Машеньку другой, — я вам вот что скажу: там видно будет. А пока идемте-ка чай пить. Вот Ванька — кавалер, а небось чайник для вас не поставил. А вот я поставил. Я печенье привез, — на ухо сказал он Машеньке, — армянское. Специально для вас.
Глава восьмая
Смерть Бауэра подняла его с постели. Он был на похоронах. Держась поодаль, в самом конце процессии, стараясь, чтобы его никто не заметил, он проводил Сергея Иваныча до могилы. Кругом говорили о Сергее Иваныче, о его болезни, он слышал, как Лавровский, фальшиво улыбаясь и прикрывая рот меховым воротником, сказал, что «покойному Сергею Иванычу всегда везло. Вот и теперь. Подумайте, ведь в какое время угодил, самые морозы». Потом стали говорить о другом, о новых выборах в Академию наук, об очередях за мясом.
Как во сне, когда все видишь, но нет сил пошевелить ни рукой, ни ногой, — с таким чувством слушал их Трубачевский. Вот Щепкин, в ботах и в длинной шубе, рассеянно и надменно закинув голову, шагает за гробом. Зачем он явился сюда? Из ханжества, из самодовольства! Вот старый пьяница Волчков со своей черной апоплексической мордой, который всем уже успел рассказать, что Сергей Иваныч оставил его при университете, что «Шляпкин тоже хотел оставить, но он предпочел, чтобы Сергей Иваныч. И он в этом не раскаялся, и я никогда не сожалел». Одно и то же выражение скрытого самодовольства было на многих лицах. Трубачевский вспомнил Чехова: «Вот тебя хоронить везут, а я завтракать пойду». Кроме самого старика, который, сложив руки, покачивался на дрогах и уже не мог думать о тех, кто на него смотрит, все было не тем, чем казалось.
Но это чувство, которое было презрением и отвращением, когда он смотрел на Щепкина, Волчкова, Лавровского, становилось тоской, когда среди неровной толпы, меж плеч и шляп, он видел Машеньку, где-то далеко, у самого гроба.
Пустые дроги, с наваленным похоронным облачением, на котором, покуривая трубочку, сидел по-турецки бородатый служитель, встретились в полуквартале от Волкова, и Трубачевский видел, с каким ужасом Машенька на них смотрела. Он понял ее. Так же как ей, ему стало страшно, что даже этой процессии с болтающими, притворяющимися, скучающими людьми, этому молчанию, этому красному зимнему солнцу, играющему на кистях покрывал, на посеребренных столбиках колесницы, скоро конец.
У самого кладбища они обогнали другие похороны. Мортусы в грязных белых пальто с блестящими пуговицами вели под уздцы чахлую лошадь, высокая старуха решительно шагала. Машенька отвернулась. Он понял и это. Ей было тяжело, что в этот день и час хоронят еще кого-то.
Могила Сергея Иваныча была на Литераторских мостках, и все провожающие по двое, по трое растянулись вдоль узкой дорожки. Не желая быть на виду, Трубачевский свернул и с другой стороны подошел к могиле.
Шесть человек несли гроб, среди них Неворожин…
Все было страшно в этот день: замерзшая яма, вокруг которой лежал дерн, тускло блестевший на срезах; могильщики, которые все время ели; бледный, распухший Дмитрий; его жена, эта шлюха, которая приехала на извозчике, а теперь стояла у могилы, бессильно опираясь на кого-то и закрывая платочком красивое, подлое лицо, — и Машенька, Машенька среди них!
Но Неворожин — это было страшнее… В модном квадратном пальто и, несмотря на мороз, в черной мягкой шляпе, он вдруг появился у могилы. Все расступились, стали полукругом. Он что-то негромко сказал могильщикам, и один из них принес едва покрашенную доску, на которой была прибита жестянка с именем Бауэра и датой его рождения и смерти. Начались речи. Опустив глаза, Неворожин стоял у гроба.
Исторические разыскания, которыми Трубачевский занялся на другой же день, были весьма далеки от исторической науки. Тема была современная. Но он работал над ней, как настоящий историк.
Однажды уже решено было убить Неворожина или по меньшей мере избить до полусмерти где-нибудь в общественном месте, при свидетелях, в магазине, а потом перед судом дать показания. Отцовская палка мореного дуба, игравшая главную роль в этом плане, до сих пор стояла за сундуком в прихожей.
Теперь эта мысль казалась ему детской. Собрать все свидетельства, показания, акты, служебные списки, анкеты, все, что относится к Неворожину, узнать его жизнь, а потом сделать из нее свои выводы — вот что он задумал.
Одну жизнь, рассыпанную и перепутанную, он сумел сложить и прочитать. Но от Охотникова остались бумаги. О нем говорилось в мемуарах. У него были друзья. Имя его упоминалось в секретных донесениях. Государство относилось к нему известным образом, и он известным образом относился к государству. Из того и из другого возникали документы — письма, заметки, дневники, протоколы. Их можно было держать в руках, смотреть на свет, сопоставлять, оценивать достоверность. Это была материя истории, разорванная, но ощутимая.
Теперь перед ним была другая задача. Он сравнил их — и впервые беспристрастие историка показалось ему мнимым беспристрастием.
Ничего не было у него теперь — ни документов, ни фактов. Он не знал даже почерка Неворожина. Он никогда не видел ни одного клочка бумаги, написанного его рукой. Все, что он знал о Неворожине, так или иначе было связано с ним, с Трубачевским. Какую же цену эти сведения могли иметь в чужих глазах? Кому не пришло бы в голову, что, обвиняя Неворожина, он выгораживает себя? Нет, то, что он знал о нем, не могло ему пригодиться. Нужны были новые обвинения и новые доказательства.