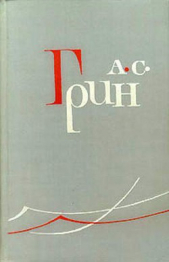Смех под штыком

Смех под штыком читать книгу онлайн
Автобиографический роман, автор которого Павел Михайлович Моренец (Маренец) (1897–1941?) рассказывает об истории ростовского подполья и красно-зеленого движения во время Гражданской войны на Дону и Причерноморье.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Шмидт не возражает. Он целиком согласен. Илья рад, счастливо улыбается: «Наконец-то, боевая работа начнется!»
Шмидт распрощался и ушел, а Илью что-то знобить стало, вечером он почувствовал себя усталым, а ночью уже понял, что тяжело заболел. К врачу обращаться не хотели: он удивится, что солдат лежит на частной квартире, распорядится, чтобы отправили его в лазарет, а это совершенно невозможно: начнет Илья бредить, и погубит себя и других.
Лечили сами, не зная болезни. Налегали на потогонные. Хозяйка дала ему чистое белье, ухаживала за ним. Приходила Нюся, жена Пирогова, Маруся — маленькая, черненькая, простенькая. Захаживал навестить Пашет, делился новостями. Он собирается уходить в горы: нечего здесь околачиваться, Борька там с первого дня приезда. Илья им завидует. Ох, как он хочет в горы! Там бы он быстро поправился.
На пятый день болезни его, вечером пришел Пашет и сообщил, что идет на собрание; будут выборы комитета. Илья заволновался: «Опять с комитетами, мало их учили, мало погибло!» Просит Пашета отстаивать свои взгляды, перетянуть Семенова, указать Шмидту, что он же соглашался с Ильей. Тот обещает: «Ничего, не волнуйся, сделаем». Ушел. А Ильи задыхался от жара, сжигавшего его.
Он собирается на воздух: там он отдышится, там пройдет жар; чем ближе к природе, тем лучше, по его не пускают. Он капризничает, брюзжит, что он совсем не нуждается ни в помощи, ни в уходе, что он сам скорей выздоровеет, а от него все не отходят. Он уже и на хитрости пускался, и примеры им приводил, что он никогда не болел, потому что не лечился. Но они — здоровые, они завладели им и распоряжаются по-своему. Он волнуется — и жар повышается. Сам измучился — и их измучил. Какой же он упрямый, капризный!
Ночью пришел Пашет. Угрюмый, раздраженный. Илья понял, что случилось то, что их всех погубит.
— Что решили?
— Все остается по-старому, а тебя и в комитет не выбрали.
Вскочил Илья, комната качается в глазах, сам шатается, худой, длинный, в белье, ищет одежду:
— Куда задевали одежду?.. Зачем спрятали?.. Что я вам мальчик? Своей воли, своей головы не имею?.. Дайте мне одежду!.. — Шарит по углам, под кроватью, в комнате хозяев — не находит, а самого качает, ноги подламываются. Его обступили, удерживают. Тут и Пашет, и Маруся, и хозяйка — все против него.
— Куда ты пойдешь? Ночь на дворе, успокойся, — все в один голос.
— Пойду… пока не разошлись, я докажу… — а сам задыхается, борется с ними. — Да пустите же! — Напряг силу воли, выпрямился: — Я же здоров, я уже выздоровел! Я знаю, что погибнут товарищи, я должен предупредить!
— Никуда ты не пойдешь. Будто поправить нельзя. Завтра утром и сходишь, — проговорил Пашет.
Но Илья нашел брюки, нашел рубаху, скомкал в руках на груди, хочет одеваться, а ему мешают. Видит — не справиться ему; в бессилии свалился на холодный пол — и уснул…
А около него возились женщины и перекладывали его, большого, безжизненного, на постель, здесь же, на полу. Тревожно перешептывались: «Принеси подушку… Накрой одеялом. Весь горит… Это у него кризис, наверно»…
В эту же ночь отходила его мать, поседевшая, замученная Рыжиком в мрачных застенках тюрьмы. Она уже стала полупомешанном, у нее отнялся язык; только слабо, невнятно лепетала да временами схватывалась, пытаясь защититься от кого-то страшного. Умирала у себя, дома… Около нее, глотая слезы, беспомощно топтались дочери-подростки.
Ее освободили за неделю до смерти, чтобы проклятие за невинную жертву не обрушилось на головы узаконенных убийц, чтобы все сошло тихо и гладко: умерла, потому что время пришло.
Арестовали ее пять недель назад. Вначале не мучили, чтоб не наглядно было. Она вместе с другими арестованными возила в бочке воду. Правда, в этом ничего страшного не было: раз лошади нет, пусть люди возят, а вывезти бочку воды, хоть и на гору, и по песку, но десятку баб можно без надрыва.
Мать же Ильи здоровая была женщина, по хозяйству за троих работала, выносила подряд косяк детей — здоровяков. Побыть на воздухе, на воле, каждому приятно, и бабы охотно шли на эту работу. А мать Ильи только здесь и могла получать передачи, потому что в тюрьму приносить не разрешали, для нее был особый режим. Дочери, освобожденные до ее ареста, одалживали средства у знакомых: ведь Рыжик все деньги забрал.
Посидела так недели две, тут Рыжик приступил к допросам. Что она могла сказать, живя в стане врага, в своей семье, пожилая женщина? Да и Рыжик это прекрасно знал.
Не допросы ему нужны были. Ему нужно было крови! Жертвы! Мести!..
Сперва она возвращалась в камеру, ложилась на нары, плакала, жаловалась. Потом с каждым днем становилась все более странной. Приходила в горячем состоянии, громко и бойко разговаривала, хвастливо рассказывала о том, что ее на расстрел водили, избивали; потом остервенело рвала, распускала густые, темные пряди волос, закрывавшие ей грудь и спину, и страшная, как смерть, как черная бездна, начинала выть, хохотать, плясать…
Бабы схватывали ее, укладывали на постель, обкладывали ее голову мокрыми полотенцами, а она вырывалась, кому-то грозила или в ужасе схватывалась, впивалась страшными безумными глазами в черную пустоту, — и дикий крик вырывался из ее груди: — «Он! Он!» — и шептала беззвучно, бессвязно…
Потом слабела, забывалась, будто засыпала, а ночами снова просыпалась и плакала, обильно смачивая подушку. И беспрестанно повторяла: «Ах, боже мой, боже мой, прости мои прегрешения».. Или вспоминала своего любимого сына, Илью, и шептала: «Где ты теперь, почему так долго не подашь о себе весточки, или тебя уже нет?.. Ах, Илюшка, Илюшка, зачем ты и себя и нас сгубил… Я ж за тобой ухаживала, я ж тебя вырастила, лучший кусок тебе оставляла… украдкой, чтоб другие дети не видали»…
Тут просыпались соседки, участливо спрашивали, не нужно ли ей чего, о чем она говорит. Она пробуждалась от своих мыслей, видела железные решетки, нары, низкие, темные мрачные своды. Острая, как нож, жалость к себе вонзалась в сердце — и громкий стон вырывался, и металась она, задыхаясь, пока не покидали ее силы…
Потом стала тише. Может-быть, осторожней глушил в ней жизнь — опытный палач. Она приходила, как во сне, кусая себе пальцы; переговаривалась с собой шопотом, бесконечно поправляла себе постель, перебирая, разглаживая и комкая ее; перекладывала подушку, садилась, поднималась, ходила по комнате, все громче, все глубже вздыхала, стонала, — и снова, стихая, шептала. Потом волна — снова нарастала, казалось, — прорвется безумное, страшное!.. Арестованные бабы настораживались, сами будоражились, метались по камере; другие, уткнувшись в подушку, рыдали: у каждой свое горе… а у нее волна снова спадала… возилась с постелью, ложилась, поднималась… Вдруг резкий дикий крик сотрясал стены камеры, обезумевшая стая баб готова была наброситься на нее, а она вскакивала, дико хохотала, рвала волосы…
Снова укладывали ее, пока не слабела ее тело и глубокое дыхание не успокаивало помертвевшую камеру. Бабы возились около нее с мокрыми полотенцами, прикладывали к голове, к сердцу, шептались около нее:
— Вся седая… Пришла молодой, а теперь старуха…
Потом ее освободили. Сама дошла до дома. Прилегла отдохнуть — и больше не поднялась.
Утром, проснувшись, почувствовал Илья, что у него жар спал, но тело ныло, как побитое камнями, во рту было суконно, горько. В доме не было взрослых: хозяин ушел на завод, хозяйка — на базар, дети играли во дворе. Он лежал на спине и слабым усилием побуждал себя вспомнить нечто, томившее его…
Вдруг он поднялся — голова закружилась, в глазах потемнело, заломило… Переждал, пока успокоилось и, пересиливая слабость, начал искать одежду. Отыскал ее, грубую, горькую, пропахшую табаком. Долго одевался. Вышел на свет. Постоял у притолоки, отдышался, подбодрился свежим воздухом, будто вина выпил. Пошел. На перекрестке вырвался из-за угла порыв ветра и сильно качнул его. С трудом, задыхаясь, поднимался по острым камням. Итти было недалеко.