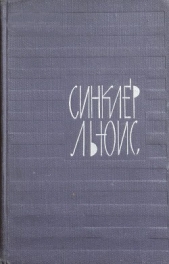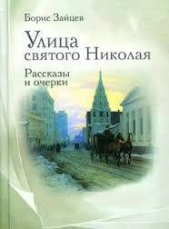Арбат, режимная улица
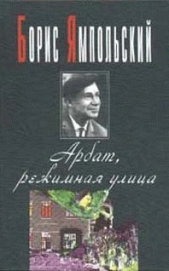
Арбат, режимная улица читать книгу онлайн
Творчество Бориса Ямпольского незаслуженно замалчивалось при его жизни. Опубликована едва ли четвертая часть его богатого литературного наследия, многие произведения считаются безвозвратно утерянными. В чем причина? И в пресловутом «пятом пункте», и в живом, свободном, богатом метафорами языке, не вписывающемся в рамки официального «новояза», а главное — в явном нежелании «к штыку приравнять перо». Простые люди, их повседневные заботы, радости и печали, незамысловатый быт были ближе и роднее писателю, чем «будни великих строек». В расширенное по сравнению с печатным электронное издание вошли очерки писателя и очерк Владимира Приходько о самом Борисе Ямпольском.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Кланяясь друг другу, хвастаясь друг перед другом, идя друг на друга на каблуках и уходя друг от друга на носках, капризничая друг перед другом, шипя друг на друга, вертясь друг перед другом колесом, волчком, ползком, на карачках, — все кричали: а-а-а! Музыканты — потому, что они музыканты, сумасшедший — потому, что он сумасшедший. Глюк — потому, что он богат, а Менька — потому, что ему хотелось покричать возле богатого. А господин Дыхес стоял в середине, огненный от выпитого и съеденного, и только шевелил пузом вверх и вниз, точно говорил: „С меня и этого достаточно".
Давно уже луна заглядывала в окна господина Дыхеса, спрашивая, когда все это кончится. А они все неслись, притоптывая каблуками, прищелкивая языками, сопя носами, выкручивая ногами вензеля, туда и сюда.
Трубачи надували щеки, держась за сердце, барабанщик бил в барабан, и скрипач плакал над своею скрипкой.
Я потерял тетку и еле выбрался.
У парадного входа извозчики — в рваных архалуках, подпоясанные красными кушаками, старые — бородатые и молодые — усатые — пили водку и, насосавшись, падали тут же, храпя и яростно покрикивая во сне на лошадей.
Со двора донеслись крики нищих и калек, которым черным ходом выносили угощенье, пусть помнят Дыхеса! Они стучали костылями и требовали еще: „Дыхес, хозяин, ты мало награбил!" Две старухи подрались из-за кости и кричали: „Там мозг, там мозг, в этой кости".
Я пошел по улице.
У фонаря сидел слепой, подвернувший под себя ноги в тряпье, чтобы казалось, что и ног у него нет. И когда я подошел поближе посмотреть — есть ли у него ноги, он, приоткрыв один глаз, закричал: ему показалось, что и я хочу сесть рядом с ним и то, что должно упасть в его кружку, зазвенит в моей. Как тень, ходил по улице странный человек в дырявом котелке, с мешком за спиной и, заходя во дворы, разрывал железной палкой мусорные кучи, молчаливо вытаскивая тряпки и вскрикивая, если находил бутылку с этикеткой; я пошел за ним, но он погрозил мне палкой, боясь, чтобы и я не нашел бутылку с этикеткой. У булочной стоял франт с бантиком на шее и, умиляясь, смотрел на крендель, выставленный в окне, но, заметив, что и я смотрю на крендель и сосу палец, он прогнал меня и сам стал сосать палец; а крендель был из глины — я сам видел, как Яков Гончар лепил его и черными точками рассыпал по нему мак.
Сонный шел я по главной улице, которая была похожа на дорогу, проложенную луной на земле.
Они сидели на балконах в тени дикого винограда, образующего как бы беседки, у больших зеленых или красных ламп. Они пили чай с молоком и вареньем, рассказывая разные истории или басни; и если были гости, гости смеялись и, хихикая, как бы между делом, просили еще одну чашку чая, закусывая коржиками, если любили коржики, или же крендельками, если с детства предпочитали крендельки.
Увидев меня, они подзывали и спрашивали: кто я такой? Из каких это ангелов? Не из тех ли, что в Иерусалимке! И, узнав, что из тех, пересчитывали ложечки на столе и чашки и смотрели, целы ли китайцы на чашках.
Кто— то дал мне грош и посоветовал пойти в лавочку за юшкой и узнать, почем там лихо и где Кузькина мать.
— Ты хочешь знать, где Кузькина мать? — хрипя, спросил рыжий лавочник, толстым пальцем щелкая меня по носу.
И я сразу узнал, сколько стоит юшка, почем лихо и где Кузькина мать. Увидев юшку, хлынувшую из моего носа, он дал мне печатный пряник и посоветовал скорее бежать домой.
Я побежал.
Увидев меня бегущего, кишечник закричал, что это я, наверное, утащил у него вывеску, где были нарисованы кишки; злая старуха с помойным ведром набросилась на меня: не я ли в прошлом году ее обмочил, — что-то очень похожий мальчик! Господин Окс стоял на крыльце, страдая отрыжкой, и погрозил мне пальцем; мальчики в бархатных курточках свистели мне вслед, девочки в кружевных панталончиках, похожие на бабочек, удирали от меня. „Подкидыш из Иерусалимки! Подкидыш!" — закричала одна девочка. Я поймал ее за косички и стал царапать, и вся улица закричала, будто я всю улицу царапал. Выбежали папы и мамы и объявили, что девочка Китти красавица, а теперь уже неизвестно, что будет с девочкой Китти; Китти — припарки, Китти — компрессы, Китти — банты, шоколадки и мармеладки.
С главной улицы, над которой кукарекал петух мадам Канарейки, свернул в грязные переулки. Беременные еврейки тихонько привлекали меня к себе и почему-то плакали надо мной, роженицы улыбались мне, пьяные клялись в верности и заплетающимся языком чего-то требовали от меня.
Здесь нигде не зажигали огней: при свете луны молились, играли в карты, ели фаршированную рыбу, целовались, бились головой о стену, и только, освещая покойника на столе, горели две бледные свечи.
Я заглядывал в окна домов: кто-то, ударив картами по столу, взглянул на меня сверкнувшими глазами, кто-то плачущий, увидев, что я смотрю, плюнул на меня через окно, кто-то ругавшийся изругал и меня; вор, укравший подсвечник, заметив, что я подсмотрел, погнался за мной. Я попался им на глаза, когда они плакали и вспоминали свои обиды, во время голода их и злобы их.
И пока я дошел до Иерусалимки, меня тысячу раз обидели, заплевали, защелкали лоб до черноты.
Здесь встретил меня старый Бенцион, сгорбленный так, будто нес на своих плечах горе всех евреев, в картузе и кафтане, таких же старых, как и он сам, с мешком пуха на спине. Утром он вышел с этим мешком, весь день с ним простоял и сейчас возвращался домой с этим же мешком пуха; весь в пуху, и пух слезами приклеен к лицу, и даже конфетка, которую он протянул мне, тоже была в пуху. Старый Бенцион взял меня за руку и повел домой. Что шепчет, что высчитывает он, идя дорогой луны, о перьях каких птиц мечтает старый Бенцион?
Шли маляры с голубыми и красными кистями, с кистями всех цветов, в которые они красили этот мир; еле переставляя тяжелые ноги, плелись грузчики с согнутыми спинами, будто все, что они перенесли, еще лежало на их плечах; кровельщики уже не летали как птицы, а еле сползали с голубых лунных крыш, и их раскачивало на ветру; трубочист вытащил из трубы в туче сажи мальчика, обвешанного метелками, и мальчик посмотрел на луну, как будто в первый раз видел ее.
Переругиваясь, катили свои тележки толстые базарные стряпухи; несли остывшие жаровни продавцы каленых каштанов, и старый шарманщик тащил на плече свою шарманку; облезлый попугай, весь день вытаскивавший конверты с судьбою, смотрел на луну и кричал: „Судьба!"
И вдруг из тишины возник стук бондаря.
Открылась наша улица вся в огнях, настежь были распахнуты двери пекарен, и у больших печей, точно черти, прыгали пекари с длинными лопатами и вытаскивали сладкие яичные булки. На горе пылала кузня. Под горой, как и утром, тарахтела крупорушка, будто уезжала куда-то по шоссе, и та же замученная лошадь ходила по кругу. Я пожалел ее, и, очевидно, почувствовав это, лошадь остановилась и посмотрела на меня, как человек.
Те же швеи сидели у окон, но уже не пели, а молчаливо шили при бледном свете луны, и казалось, не венчальные платья, а саваны они шьют.
Вот и дом наш. Парижский портной Юкинбом, в жилетке, с сантиметром через плечо, сидел на столе, подвернув под себя ноги, и метал швы: „Есть игла, нет иглы, я шью с большим почетом!" В мастерской „Новый свет" Ерахмиель, согнувшись, с деревянными гвоздиками в зубах пел песню сапожника: „мм-ммм" и, когда вынимал изо рта гвоздики, говорил: „дирл-бом" и ударял молотком по подошве, а сидевшие вокруг него на полу маленькие Ерахмиельчики, когда отец говорил „дирл-бом", хором отвечали ему: „бим-бом!" На балконе мальчик Котя, сладко улыбаясь, спал на пуховичке. И вдруг он что-то забормотал и заплакал: ему, наверно, приснилась яичница-глазунья, которую он не любил больше всего на свете.
У ворот сидели женщины, держа на руках детей, убаюканных светом месяца.
— Ну, — встретили они меня, — что же ты теперь будешь делать?