Дягимай
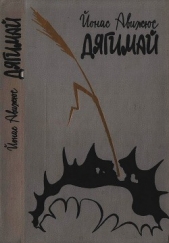
Дягимай читать книгу онлайн
Роман известного литовского прозаика, лауреата Ленинской премии Йонаса Авижюса посвящен современной литовской деревне. В нем на фоне событий, происходящих в деревне Дягимай, рассматриваются сложные задачи современности, уклад жизни литовского села, проблемы и перспективы его развития. Основное внимание автор уделяет духовному миру своих героев. В 1982 году роман «Дягимай» удостоился приза Общества книголюбов и Госкомитета по делам печати и полиграфии Литовской ССР как самая популярная книга года.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— А ты, отец, гордись, не гнушайся, — наконец не выдерживает Унте; холодный борщ он уже съел и с огромным удовольствием принялся уписывать вареники, то и дело макая их в сметану. — Как умею, так пляшу, что имею, то ношу. Ежели чего во мне и не хватает, то уж этого, отец, мне с неба не достать…
— Да шут с ним, с небом. Ты лучше скажи, откуда в тебе дурные привычки, пороки? Конечно, никто не рождается с трубкой в зубах и бутылкой водки в руке.
— Твоя взяла, отец, твоя… — ворчит Унте, налегая на миску. — Тебе, отец, подавай только все красивое, хорошее, а откуда все плохое, ты и не думаешь.
— Почему не думаю? Плохое от самого человека, откуда же еще? И братоубийцу Каина, и его жертву Абеля та же мать родила.
— Тебя не переспоришь, — бормочет Унте. — Пусть будет по-твоему…
Старик Гиринис ничего не отвечает. Молчат и обе женщины. Только когда кончили обедать, Юстина вспомнила, что встретила Ляонаса Бутгинаса.
— Просил зайти, — напоминает она брату. — До полудня будет в сельсовете.
— Бутгинас, что ли?
— Нет, Илья-пророк, — с издевкой отрезает Юстина.
Но Унте в эту минуту не до Бутгинаса: столько слов сказано, столько еды рядом… Он уминает последний вареник, но вкуса не чувствует. Впивается взглядом в потолочную балку. И мысли его где-то далеко, далеко… Мелькает лицо Юргиты и снова исчезает. Она приедет, конечно. Вместе с братом. Счастливчик Даниелюс… Будь на дворе зима или выходной, Юркус устроил бы вечер самодеятельности. Как ни крути, приятно петь, когда тебя слушает толпа. Немножко боязно, но приятно. А уж если среди слушателей Юргита… Правда, приезжала она весной, перед самыми посевными работами, потом еще в районной газете весь концерт описала. Сидела рядом с отцом в зале. Унте думал, что ничего хорошего из его пения не получится — так у него сердце колотилось. И в самом деле, первые куплеты он спел как-то вяло. А потом осмелел и как затянул — весь Дом культуры после каждой песни от аплодисментов и криков дрожал.
Юргита сидела в третьем ряду и улыбалась, подбадривая Унте, глаза ее жарко сверкали, и от этого сияния, наполнявшего грудь удивительным теплом, песня расправляла крылья, и клокотавшее радостно сердце возносилось куда-то ввысь. Саулюс Юркус, глава Дома культуры, стоял перед своим хором чуть-чуть наклонившись вперед (как лев, приготовившийся к прыжку), а хор, замерев, ждал его знака, чтобы повторить последние две строчки. Юркус улыбался в свою густую рыжую бородку, и, как белые клавиши, сверкали его крупные здоровые зубы.
Унте не припомнит, когда еще был так счастлив, как в тот вечер. Все, что он тогда пережил, все, что перечувствовал, так ярко врезалось в его память, что потом он еще долго жил этим, и в ушах по-прежнему отдавалась глубоко взволновавшая его мелодия, вот и сейчас она звучит, гремит, как далекие удары колокола, нарастает, проникает в самые потаенные уголки его сердца, и оно трепещет.
— Что ты навалился на стол, как медведь, это тебе не кровать, — корит его Салюте, возвращая мужа из безоблачных высот на грешную землю. — Ты что, не видишь — все поели, со стола убираем.
— Поели?.. А… Ну и хорошо, что поели. — Унте лениво встает. — Ой, до чего же порой бывает хорош белый свет! Живешь среди той же скотины, что и раньше, но вдруг в оконце свинарника залетает солнечный луч, и сразу все преображается. Словно волшебник махнул палочкой, и совершилось чудо — всюду светло, царят справедливость и добро.
— Болтаешь всё… — осаживает мужа Салюте. — Лучше прилег бы на часок.
— Слышишь? — вторит ей Юстина, сомневаясь в том, думает ли брат о каких-нибудь земных делах, — Бутгинас зовет. Видно, важное у него к тебе дело.
— Какое там важное, — напускается на нее Салюте. — Просто захотелось языком потрепать. Льнут они друг к Другу, водой их не разольешь.
— Пусть лучше к Бутгинасу льнет, чем к какому-нибудь пьянице, — встает на защиту брата Юстина.
— Надирается он и у Бутгинаса, хватает ему и там…
— Ну уж ты не сравнивай. Твоему муженьку только понюхать дай, он полрайона исколесит, чтобы еще добыть.
— Не было бы чего добывать, он бы и не рыпался, не шастал, — не уступает Салюте, все более раздражаясь.
— Заступница нашлась! — возмущается Юстина. — Такие вот, как ты, потворщицы, пособницы, и портят мужей. Попался бы мне такой герой в руки, я бы с ним быстренько справилась. Он бы у меня не ползал на коленях перед бутылкой, не молился бы на нее. Одно из двух: или живи как человек, люби свою супругу, или ступай от меня, несчастной, на все четыре стороны, если тебе чертов напиток дороже.
— Ну уж, ну! — багровеет от злости Салюте. — Взяла бы и сделала из пьяницы трезвенника. Тебя послушать — так муж точно бочка какая-то: выцедила из него пиво, налила колодезную воду — и готово. Не думала, что ум у тебя такой короткий.
— Говори что хочешь, а я с пьяницей ни одного бы дня не прожила! — не сдается Юстина, громыхая посудой на кухне. — Ты что думаешь — я себе муженька найти не могла? Куда там! Не один ко мне сватался, хоть и не красавица. Еще и сейчас не поздно эту петлю на шею накинуть, только пожелай я, да подходящего не видать. Да, да, только пожелай я, разве мало сорокалетних женщин замуж выходит? Но ты скажи, где таких мужчин сыскать, таких, которых уважать и любить можно? Все лодыри, пьянчужки смотрят на бабу как на рабочую кобылку. А ежели кто на сивуху и меньше посматривает, ежели кто пообразованней да пообтесанней, то все равно — не он мои портки, а я его после замужества стирать буду. Я буду по дому хлопотать, а он — у телевизора сидеть. Где это ты видела, чтобы муж ужин готовил? Скотина, огород, дети — все на плечах у бедной бабы. Муж только вид делает, что воз тянет, а баба и впрямь в этот домашний воз впрягается, сил не жалеет. Так на кой ляд мне впрягаться? Ежели бы нашелся такой, к которому я бы сердцем потянулась… А только из-за того, чтобы замуж выйти, чтобы кого-то в постели иметь… Нет, лучше одной! Пусть дуры тянут семейное ярмо, барщину отбывают. Такие, как ты, как моя сестра Бируте…
— Это уже не ты, а обида твоя говорит, Юстина. Осталась в старых девах, вот и злишься на весь свет.
— Старая дева, но зато свободная. Никто меня сапогами не топчет.
— Далась тебе эта свобода. Ни мужского плеча, ни детей…
— Дети! Ну, этого добра можно и без мужа нажить…
Унте не слышит их ссоры: как только сцепились, он вместе с отцом и вышел из избы — старик отправился в чулан на боковую, а сын через всю деревню — в сельсовет. Сквозь густые разлапистые деревья кое-где пробивается солнечный луч. Хорошо и свежо под прохладной, пахнущей зеленью листвой, в которой нет-нет да просвечивает голубой лоскут неба, усеянного белыми перистыми облаками. На дорогу с обеих сторон смотрят крохотные оконца старых изб, выкрашенные в желтый цвет крылечки, поскрипывают замшелые дубовые колодезные журавли, какие нынче уже не в моде. Примерно через полверсты зеленая крыша обрывается: новые кирпичные дома, садочки, не успевшие еще прижиться, и простор, простор, разве что попадется где-нибудь одно-другое молоденькое деревце, высаженное у дороги. Да чего и удивляться, ведь лет двадцать тому назад здесь тянулись пустые поля.
Во дворе Дома культуры ни одного человека. Пусто и на площадке для стоянки машин. На втором этаже несколько окон, одно из них — сельсовета.
— Присаживайся, — говорит Ляонас Бутгинас и тычет пальцем в потертое кресло у стены. А сам остается у окна. Без пиджака, в рубашке с засученными до локтей рукавами, оголившими смуглую, заросшую густыми волосами кожу, влажную от пота. Высокий лоб и широкое лицо сверкают, словно лоснятся от жира. — Ну и мучаюсь же я летом, — жалуется он, доставая из кармана скомканный носовой платок. — Двадцать градусов выше нуля еще куда ни шло, стерплю, но если выше, то пот с меня ручьями течет. А уж сущая беда, когда приходится надевать пиджак и завязывать галстук.
— Так ты, может, вызвал меня, чтобы сообщить о том, что перебираешься на север? — усмехается Унте, развалившись в кресле.

























