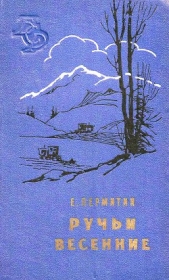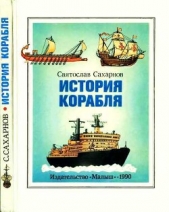Открытые берега (сборник)

Открытые берега (сборник) читать книгу онлайн
Сборник «Открытые берега» наиболее широко представляет творчество Анатолия Ткаченко, автора книг «Берег долгой зимы», «Земля среди шторма», «Был ли ты здесь?», «Сезонница» и других.
Герои рассказов А. Ткаченко — промысловики, сельские жители, лесники — обживают окраинные земли страны. Писатель чутко улавливает атмосферу и национальный колорит тех мест, где ему пришлось побывать, знакомит читателя с яркими, интересными людьми.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Надя глянула — я не улыбнулся, — серьезно ответила:
— Не прописано.
— Голявкину пожалуюсь.
Надя еще раз глянула, сказала сочувственно, но строго, как, ей казалось, говорят с больными врачи:
— Потерпите. Потом все можно будет.
— Спасибо.
— В обед бульон принесу… — Она не договорила, поняв, что обед пока не интересует меня, опустила в руке поднос и, четко выговорив: — Всего вам хорошего, — поспешно, с облегчением покинула палату. Для нее, пожалуй, не было ничего более страшного, чем больше минуты провести наедине с мужчиной. Смешная: какой же я сейчас мужчина!
Выпил яйца, ругнув Надю (не принесла соли), съел сметану и бутерброд, выдул в один прием чуть тепленький чай. В животе не стало полнее, зато есть захотелось по-настоящему. Удивился: оказывается, меня уже немного подлечили — душа побаливает, а животу пищу давай. Или так всегда — в каждом из нас два существа живут: один из чистого духа, другой — из плоти.
Приблизился к двери: всеми тремя этажами говорил, кипел, двигался санаторий. Он был похож на утробу огромного механического существа, переваривающую людей. Вспомнил: выходить мне нельзя. Запрещено и меня навещать. А почему? Чтобы не расстроить как-нибудь или не развеселить? Может быть, больному перед операцией надо думать только об операции — легче будет потом хирургу? Переболеет заранее — на настоящую боль силы не останется… Повернул назад, прошагал к подоконнику. «Тубики» еще не выползли на белые дорожки, не просочились под сосны (до обхода многие отсиживаются в палатах), — и лес был чист, одинок, как в доисторическую эпоху; дорожки протоптали какие-то тоже вымершие теперь млекопитающие. Для полной убедительности туча закрыла солнце. Я побродил от стены к кровати, считая шаги, а когда опять подошел к окну, — глаза резанул белый свет от песка внизу. Почудилось, что в три минуты земля покрылась снегом. Даже холодок пробежал по коже.
Мне сделалось хорошо оттого, что я умею так резко, неожиданно для себя видеть. Могу вздрогнуть, испугаться, и это вдруг переменит что-то внутри меня, обострит чувства, и после я живу легкой, чутко настроенной на все живое и сущее жизнью. В такие минуты я понимаю: это как раз и есть то, ради чего рождается, хочет выжить, мучается на земле человек. Прикосновение к себе — высшему.
Подошел еще раз к окну, глянул. Песок погас. Зато вода Зеи, просвеченная до желтого дна, лежала потоком неколотого льда; кажется, можно было ступить на нее и, как Иисусу Христу, перейти на другой берег. Я бы, пожалуй, ступил, если бы вот сейчас, мгновенно очутился у воды… Отошел к кровати, сел, совсем облегченно вздохнул: «Все. Я не боюсь».
И заспешило время. Оно не было отделенным от меня, и потому я не ощущал его тяжести. Дул, затухал, снова рождался ветер, смещалось вправо на небе солнце, старели сосны, и в каждую новую минуту в моем окне текла новая вода Зеи. Я вспоминал, думал, сопоставлял, подводил черту перед этим, сегодняшним днем: завтра начнется другой отсчет моим дням, моему движению по жизни. И много раз, настойчиво и внезапно, приходил мне на память давний случай. Почему-то именно он. Это так же необъяснимо, как то, что, глянув в окно, я прежде всех других сосен вижу одну, стоящую слева от аллеи, за двумя другими, и похожую больше на скудную северную елку: ветки у нее короткие, косо свисают книзу. Не самая рослая, не самая красивая, но чем-то, наверное, особенная.
В детстве, когда мне было лет десять, я забрался на гору — она крутой каменной глыбой вдавалась в море, прикрывая наш поселок от штормовых ветров, — забрался тайно, доказать себе, что я не трус, отомстить взрослым, которые сами ходили на гору, смотрели оттуда тайгу и море, а нас, даже мальчишек, отпугивали разными страхами: будто там медведь большущий живет, филины страшно кричат, камни сами по себе отваливаются и катятся в море. Ничего этого я, конечно, не увидел, вскарабкавшись по сумеречному ущелью до самой вершины. Зато когда глянул со скалы сквозь редкие лиственницы — дышать перестал: море с полосами тумана — то синее, то белое, — дальние черные мысы, размытые маревом, облака, до которых рукой можно дотянуться, и тайга дымно-зеленая на бессчетных горбах сопок — тоже как море, но вечно бурное и твердое… Среди всего этого, огромного, непостижимого, дома поселка под горой казались лилипутскими, словно разбросанные спичечные коробки. Я испугался одиночества, затерянности, бросился назад, к своему ущелью, чтобы спуститься вниз. Но вскоре понял, что ущелий много, все они очень похожи, и найти то, по которому я забрался на гору, совсем не просто. Наконец, обойдя весь склон, обращенный к поселку, выбрал ущелье с чуть приметной тропинкой, обрадовался, побежал по нему. Кривые березки здесь оплетали камни корнями, удаляясь, они как бы падали с высоты, исчезали в тумане. Я бежал, хватался руками за жидкие стволы, чтобы не покатиться кубарем, туман густел, и когда мне уже казалось, что вот-вот сбегу на ровную землю, — камень, катившийся впереди меня, вдруг притих, будто замер, и через какое-то очень длинное мгновение слабо отозвался глубоко внизу. Вцепившись в березу, я висел на ней, пока моя едва не отлетевшая душа медленно овладевала телом, — над пустотой, пропастью, тишиной… После, придя домой, я никому не рассказал об этом: мне было страшно тронуть даже воображение.
Так и отметилось на всю жизнь в моей памяти: катится и замирает камень, катится и замирает… Если бы не камень!..
Отворилась, стукнула дверь. И еще стукнула несколько раз — слабее, четче. Я обернулся. На пороге стоял Семен Ступак, нервно подергивая деревяшкой.
— Можно? — прохрипел он, стараясь говорить шепотом.
— Вошел ведь.
— Пришел, я пройду… — Ступак застучал, медленно вышагивая, ставя правую, здоровую ногу на носок (ему хотелось изобразить осторожность и легкость). — Солдат, он завсегда пройдет. — Ступак далеко вперед протянул свою руку. — Правильно я говорю?
Я киваю, пожимая его единственную, тяжеленную, наверняка стоящую моих двух рук.
— Правильно я говорю! — уже чуть грозно выкрикивает он. — Солдат, он кто? (Я догадываюсь: Семен выдул не меньше трех литров кумыса.) Кто — спрашиваю? То-то! Я для видимости прогуливаюсь, а сам глазом обстановку оцениваю. Сестра отвернулась на момент, я — раз-раз — и на этой стороне, возле операционной. Вот тебе и полчеловека. Лейтенант, тот не смог, задержала Антонида. Соображенья мало.
Ступак сел, спрятав протез под стол, подвинулся ко мне своей исправной половиной. Выпучив блеклые, с алкогольными прожилками глаза, по-бычьи уставился на меня.
— Я почему?.. По-человечески, понял? Ну, поругались… А когда такое дело — операция, можно сказать, как после тяжелого ранения, — я понимаю. Сам, смотри, — он потрепал пустой рукав, стукнул костяшками пальцев по протезу. — Понимаю. Потому прощаю тебе и сочувствую. Вот! Дозреешь, опосля поговорим. А всякие теперь умные стали… Комсомолец?
— Выбыл по возрасту.
— Все одно. Держись нашей линии.
Ступак, не спуская с меня глаз, медленно полез за папиросой, считая, наверное, что беседа успешно началась.
Вошла Антонида, остановилась чуть испуганно, удивленно окликнула:
— Ступак!
Он вскочил, будто на него рявкнул генерал, вытянулся в струнку всей своей здоровой половиной тела, быстро козырнул.
— К пустой голове не прикладывают, — сказала и еле заметно усмехнулась Антонида.
— Так точно!.. Вот товарища навестил, душевно побеседовали…
— Шагом марш!
Ступак четко простучал в коридор, Антонида проследила за ним и, когда закрылась дверь, повернулась ко мне: в ее слегка отстраненной руке был шприц с набухшей капелькой на конце иглы.
— Что это? — спросил я.
— Пантопон.
— Зачем?
Она подняла брони, как бы стараясь понять: шучу я или на самом деле не знаю? — и это одно мгновение лишило ее спокойного настроя, она вспомнила утро, опустила голову, несильно хмурясь. А я догадался, зачем пантопон, и удивился, что это, так трудно ожидаемое, настало все-таки неожиданно обидно буднично.