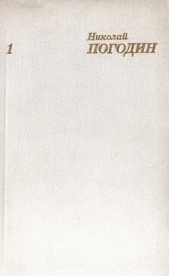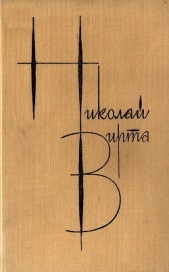Собрание сочинений в 4 томах. Том 3. Закономерность

Собрание сочинений в 4 томах. Том 3. Закономерность читать книгу онлайн
Роман «Закономерность» связан с вошедшими в том 1 и том 2 романами «Вечерний звон» и «Одиночество» не только тематически, но и общностью некоторых героев. Однако центр тяжести повествования переносится на рассказ о жизни и делах юношей и девушек из интеллигентских слоев губернского города Верхнереченска, об их нелегком пути в революцию.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Старик на вора не походил. Был он одет в черную рубаху, такие же брюки и высокие сапоги. Митя успокоился.
— А то я боюсь, — признался он.
— Ну, теперь мы тут с тобой вдвоем жить будем. Не бойся. На дуде играть можешь?
— Не-е. Из рогатки стреляю.
— Из рогатки, брат, и я умею. А ты на дуде попробуй поиграть.
Дед вынул из кармана дудочку, прищурил левый глаз, приставил дудку ко рту, пальцы его забегали по дырочкам, и Митя услышал «Камаринского».
Дед играл и пристукивал каблуками.
— Вот это здорово! — похвалил он самого себя и спрятал дудочку.
— Как тебя зовут, малец?
— Митя. А тебя?
— А меня Карп Петров, Петрович. Хозяин твой кличется Львом?
— Ага.
— Фамилию я его забыл, мудреная фамилия. А дай мне, парень, хлебнуть воды.
Это был для Мити первый вечер, промчавшийся стремительно.
Петрович, лежа на полу рядом с диваном, успел рассказать Мите множество сказок и прибауток.
Митя поведал ему свою историю.
Петрович долго вздыхал и щелкал языком.
— Эк она какая, жизня-то! Поди ты! Никого им не жалко! А мне всех жалко. И береза так жалобно колышется да стонет, когда ее рубят. Сердце тоской исходит, на нее глядючи. Или вон пташек бьют… И пташек мне жалко, ой, жалко, парень. Господне творение — пташка-то! Все господне творение, и все желает жизню пройтить весело. А тут — чик, и кончила пташечка свои песни. Рука-то человеческая какая беспощадная, а? Не дрогнет! По мне — хоть бы и лес не рубили, и цветов не рвали — мне, милой, все жалко! И человек растет, к солнцу тянется, и дерево, и, скажем, скотинка, все воздуху глотнуть хочут. Да, господи, да неужели воздуху или там земли не хватит для всех? А ты ходи бочком, бочком, не подевай никого, ан и тебя не заденут. Поставили бы меня царем земным, я бы им и сказал, людям-то: дескать, люди милые, чего суетитесь? Чего мечетесь? Потише живите. Тихохонько живите. Мир-то, господи, какой большой. Шум то, зачем он? Я вот, поверишь, Митенька, шестой десяток годков хожу по миру и никого не обижаю. Никого не трогаю. Вот и сейчас легкость такая на душе — хоть вставай и пой псалмы. Я псалмы очень уважаю. Легкое пение. Я ведь, Митюня, все дороги исходил. Я на все руки: и водопроводчиком был, и пекарем, и каменщиком. Во как! И в монахах побывал. В монашеской печатне послух нес. А потом ушел оттуда, воздух там тяжкой, злобной, мира там нет. Мир, парень мой, в сердце нашем, вот где он, мир-то! Печатное дело — мирное дело, вот я его и полюбил. Стоишь это, подбираешь буковку к буковке, буковку к буковке, глянь — слово получилось. А слово-то, по Писанию, что означает? Слово бе бог. То-то и оно. Свечка горит, темень в углах, а ты стоишь и буковки подкладываешь. Сколько слов-то я сложил за тридцать лет, подсчитай, а? И с кем я не был дружен? Мне что? Мне все — люди! Я никого не обижаю, и меня любят, хе-хе-хе! Петрович, дескать, светлая душа! А один раз я воевал, Митенька, вот те Христос! У господина Колчака. Ты о таком, поди, и не слыхал? Он в Сибири воевал, огромадную собрал армию. И меня туда же. Ну-ка, говорит, старичок, воюй! Иду это я как-то по лесу, глянь, человек лежит. А на шапке у него звезда. Ну, думаю, значит, красный. И как жалобно просит: пи-ить, пи-ить. Как птичка: пиить, пиить! А где я ему пить возьму, ты подумай? Постоял я над ним, поплакал, жалко мне его было! Сердешный! Пи-ить, пить дай — тянет. Умирай, говорю, ясынька, господь, говорю, твою душеньку с лаской примет. Так и ушел, иду да плачу, иду да слезы лью.
— А что ж ты ему водички не дал?
— Да где бы я ему взял? Ну, где? У меня в баклажке была водица, так ведь я живой, а он почитай что мертвой. Ему все равно господь смерть пошлет. Вот как! А потом я у господина Савинкова работал. Знавал я его, Бориса Викторовича, славный был господин, спаси господи его душу. У него дорожка, конечно, была своя, да ведь у всех дорожки разные. Разве я их переделаю? Перегорожу? Пускай идут, как хотят, а я за них помолюсь господу. Вот и вся недолга. Я и у патриарха Тихона работал — видел его, святейшего владыку. И пересчитать трудно, Митюня, где только я был! В ямах разных стою себе со свечкой, пощелкиваю буковками… Так-то!.. Мне недавно один господин и говорит: «Ты, дедушка, светлой душой кличешься, а ведь слова-то ты собираешь вредные. Слова-то эти кровью оборачиваются!» — «Боже мой, — говорю я, — господин хороший. Для кого эти слова вредные, для кого чересчур любезные. Как же тут поладить? Мы, говорю, не знаем, какие слова вредные, какие полезные. То знает один господь». Вот и отбрил его, хе-хе-хе! Как же я могу знать, какие слова вредные? Это мне знать не положено. Все слова богом дадены! Он и рассудит всех: кто правый, кто виноватый. А я их, слова-то, крестом крещу, подберу строчку, да и крестом — гуляйте с богом, с Христом. Вот как, Митюня. А этот… Анатолий-то Фролов, что ли, говорит мне: «Болтать, дедушка, о нашем деле нельзя». А зачем мне болтать? Я бочком, бочком хожу. Мне все равно. Мне был бы хлеб, да одежа, да господен воздух. А он мне… Слышь, Митя! Да ты спишь? Ну, спи, спи, младенец, господь с тобой. Сон-то у тебя светлой, мягкой, розовой. Спи!
Старичок поворочался с боку на бок и тоже заснул.
Петрович оказался редкостным человеком: он действительно умел делать все решительно.
На второй день после своего приезда Петрович осмотрел подвал, полуразрушенную печь и заявил Льву, что «и господь бог лучшего бы не придумал».
В самом деле, место, выбранное для подпольной типографии, было более чем удобно. Раньше в подвале помещалась хлебопекарня. Ход в нее был сделан прямо из мастерской; до Льва тут была хлебная лавка.
Треть подвала занимала русская печь. Под ее был приподнят над полом подвала на пол-аршина. Через колоссальное устье печи мог бы пройти бык. Одной стороной устье вплотную примыкало к кирпичной стене высохшего колодца.
Старик, по совету Льва, разрушил устье. Обваленные кирпичи прикрыли отверстие. При первом взгляде на печь казалось, что она разрушена до основания. Вход в нее старик сделал из углубления, служившего раньше для хранения дров. Лаз закрывался деревянным щитом, так искусно разрисованным, что он сливался с серыми прокопченными стенами подвала.
Второй ход представлял собой дыру в стене колодца Она была пробита Львом. Старик эту дыру расширил, укрепил, в колодец спустил лестницу. На ночь лестнице убиралась. Солидной толщины стены подвала и печи глушили всякий звук.
Затем Петрович принялся за водопроводные работы. Он взял несколько отводов из центральной магистрали и провел их в подвал.
Две трубы шли непосредственно в печь. Управлять этой системой было просто: в мастерской, через которую шла центральная труба, был поставлен кран. Один поворот рукой — и вода направлялась по отводам в подвал.
Петрович долго делал какие-то вычисления и наконец объявил Льву, что подвал и печь могут быть затоплены в течение пяти минут.
Последние приготовления, в том числе установка электрической сигнализации, которая шла из мастерской, были закончены в первых числах мая двадцать седьмого года.
В течение двух дней Лев и Петрович по частям перетащили в подвал шрифт, валики и прочие типографские принадлежности.
Богданов к этому времени так привык каяться, что считал плевым делом обмануть лишний раз контрольную комиссию. Он произносил пламенные речи, расписывая свою верность партии, и в тот же вечер шел на конспиративную квартиру.
Лев догадывался о том, что Богданов готовится к какому-то новому, большому выступлению, и зорко приглядывался к нему.
Как-то вечером, возвращаясь от Камневых, Лев лицом к лицу столкнулся с бывшим председателем Пахотноугловского ревкома.
Алексей Силыч, одетый в военную форму с темно-красными петлицами на углах воротника, совсем не изменился, и Лев узнал его мгновенно. Они столкнулись, когда Лев, задумавшись о чем-то, шел по центральной улице.
Лев побледнел, и у него мгновенно вспотела спина.