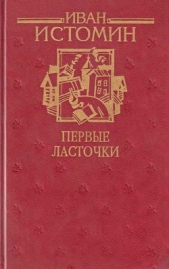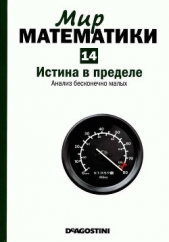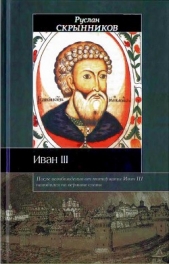Живун
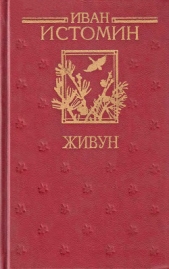
Живун читать книгу онлайн
Переиздание одноименного романа, повести «Последняя кочевка» и рассказов старейшего ненецкого писателя. Произведения, написанные на автобиографической основе, воссоздают историю Тюменского Севера 20-х–30-х годов нашего столетия.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Дед удивленно посмотрел на босую, с засученными выше локтя рукавами фельдшерицу.
— Верно ведь, Калина Палона, — сказал он, оживившись. — Она и есть. Она часто в мой чум приходит, старуху мою лечит, меня лечит.
— А ты не узнал меня, дед? — засмеялась фельдшерица. — Я учу Нензу полы мыть, стекла протирать в окнах.
— А-а… — кивнул старик белой головой. — Так, так…
Ненза — высокая, средних лет женщина, тоже босая, в косынке. На спине — длинные тяжелые косы, похожие на круглые палки. Она стояла с мокрой тряпкой в руке, стыдливо повернув лицо к окну.
— Идите туда, на кухню, а то Ненза стесняется вас, — сказала Галина Павловна.
Старик через открытую дверь оглядел другую небольшую комнату, Федул опять спросил:
— Теперь что скажешь? Хорошо?
— Саво, — чуть слышно ответил Ямай.
— То-то же. Еще бы! Не дом, а одно удовольствие, с обстановкой, со столами, стульями!
Потом все трое вышли во двор. Угощая ненцев папиросами, столяр спросил Ямая:
— Ну как, дед, перейдешь в дом?
— Зачем нам в дом переходить? — с обидой в голосе спросил Ямай. — Зайдешь в воду — умей плавать. Мы в чуме жить привыкли, в доме совсем не умеем…
— Это не беда. Вот Матко с женой столярное дело не знали, а теперь они и мебель смастерят, и раму оконную сделают. А Галина Павловна Нензу полы мыть учит. Дома строить, печи ставить колхозников не учат? Тоже учат. Сидор Николаевич плотников готовит, коми Гриша Рочев печному делу Яптика и Пиналея обучает. Э-э, да только не ленись и будь смелее, научиться можно всему. Все мы — и русские, и коми — всегда поможем вам. Живем мы в одной тундре, одним воздухом дышим, одну воду пьем, одну жизнь строим. Верно?
— Правильно, правильно, — Матко держал в руке ящик с инструментами.
Старик стоял молча. Потом попрощался и ушел.
Ямай долго стоял в нерешительности у своего чума. То-то будет сейчас, как узнает старуха, зачем вызывали его в правление. Наконец вздохнул и, захватив с собой охапку дров, вошел.
— Тебя только за смертью посылать, — проворчала старуха. — Ушел и пропал, как стрела, пущенная из лука.
Хадане, с маленьким сморщенным лицом и с пепельными волосами, заплетенными в две тощенькие косички, сидела на оленьей шкуре в левой половине чума и шила рукавицы.
Старик положил дрова перед железной печуркой, снял малицу, сел на правой половине чума, у печки, скрестив ноги, обутые в еще добротные, но уже порыжевшие от времени меховые кисы.
— Не по своей воле задержался, Тэтако виноват. — Ямай облокотился на колени.
Услышав имя председателя, Хадане насторожилась и с тревогой в голосе спросила:
— Зачем он вызывал тебя?
Ямаю не хотелось огорчать жену, но обманывать он не умел и все рассказал, умолчал только о посещении дома. Хадане отбросила в сторону шитье и, закрыв лицо руками, зарыдала. Старик не знал, как утешить бедную старуху, и принялся подкладывать дрова в печку. Потом набил табаком костяную трубку с медным ободком и, низко опустив взлохмаченную голову, начал курить.
Дрова разгорелись. Большой никелированный чайник на печке вскоре запел тоненьким комариным голоском. Подвешенная к шесту лампа плохо освещала чум и очень коптила. Хадане сидела в полумраке. Расстроенная, она долго плакала, а потом с руганью набросилась на старика:
— Вот беда-то, вот беда-то… И во всем ты, старый дурак, виноват. Зачем согласился остаться на фактории? Разве мы вдвоем не могли жить в чуме, кочевать со своими оленями? Вон старики Салиндеры отказались остаться на фактории, теперь по-прежнему кочуют в тундре, свежим воздухом дышат. А ты на старости лет береговым человеком захотел стать, в деревянном чуме жить собираешься. От оленей отказался, забыл, как они тебе достались…
Ямай выпрямился.
— Ты что же, старуха, не помнишь, как дело было? Разве я не протестовал, не ругался? Думаешь, только тебе жалко и тундру и оленей? Я их каждую ночь во сне вижу. Молодежь с кочевой жизнью расстаться захотела. Хочет жить по-новому. Что мы с тобой могли сделать? Вот теперь на фактории сидим и, наверно, последние дни в чуме живем. Так получается.
Старуха вспылила:
— Нет уж, я в чуме родилась, в чуме и умру!.. Мои родители в чуме прожили и мне завещали. Почему ты сегодня председателю не сказал: пусть, мол, в доме молодые живут, старым ненцам в деревянном чуме жить не положено, они помнят заветы своих отцов и дедов. Легко же ты старые обычаи забываешь!
— Не забываю. Я три часа, однако, спорил с председателем. Я — свое, а он — свое. Сама знаешь, какой он, этот Тэтако.
— Что он понимает? Он еще молод. Откуда ему знать, почему наши предки в чумах жили?
Старик, чуть склонив голову, с расстроенным лицом слушал.
— Разве предки наши могли дома строить? Откуда бы они лес достали? В тундре он не растет. Теперь его на пароходах возят. Раньше разве могло так быть? Не могло, так я думаю.
— Ничего ты не понимаешь, совсем дураком стал, — перебила старуха. — Посмотри вверх. Видишь мокодан? Небо видишь? Ты небо видишь, тебя добрые духи видят и слышат, когда ты у них помощи просишь. В доме жить будешь, добрые духи не будут знать, как ты живешь, чем помочь тебе. Там мокодана нет, там потолок, на потолке земля. Я сама видела, как туда землю таскали. Как же тебя добрые духи слушать будут? Ты в чуме сидишь, улицу не видишь, и тебя с улицы не видят. Злые духи, которые по земле ходят, не видят, не знают, как ты в чуме живешь. И на сердце у тебя спокойно. А в доме кругом окна, злые духи тебя будут видеть, ты их можешь увидеть — испугаешься, с ума сойдешь.
— Что ты, что ты, старуха, — зашевелился Ямай на другой половине чума. — Зачем такое говорить?
— Вот видишь? — не переставала Хадане убеждать своего мужа, точно старик был виноват во всем. — Ты ничего про это не думаешь.
Ямаю надоело слушать жену, и он, несколько раз звучно пососав трубку, недовольно буркнул:
— Хватит, однако, учить меня. Я сам все хорошо понимаю.
— Нет, не хватит. Я еще не все тебе сказала. По-новому жить будешь — по-новому тебя и похоронят: в землю зароют, как падаль. Сделают тут новый хальмер [1] и будешь лежать рядом с русским или зырянином. На могилу тебе нарту не поставят. Как ты тогда попадешь в царство Неизвестности? [2] Будет тень твоя по свету блуждать, как бездомная собака, — и Хадане ехидно взглянула на мужа.
— После смерти все равно где лежать. Так я думаю, — сказал Ямай, желая прекратить перебранку. Он знал — жена в таких случаях плюнет и махнет рукой.
Но Хадане на этот раз заворчала еще громче:
— Вот и дурак, совсем дурак стал! С таким дураком как дальше жить? Уеду в тундру, обязательно уеду. А ты оставайся с сыном, со снохой и живи в доме!
— Да я в доме жить не собираюсь. Куда я без тебя? Хватит об этом говорить. — Старик откинулся на постель и подумал: «Старая лайка потому и лает, что зубы тупы, не знает, как жить дальше».
Хадане еще долго ругалась, но муж притворился спящим и больше не отзывался. Наконец старуха замолчала, стала хлопотать возле печки, изредка бросая сердитый взгляд на Ямая, лежавшего на боку, положив голову на свернутую оленью шкуру.
Ночью звонкий скрип разбудил старика Ямая. Еще не совсем проснувшись, он пошарил рукой, но нарты не было, и он понял, что спит в своем чуме, а снег скрипит на улице, а не под ним.
Старик сбросил с себя меховое одеяло и сел, прислушиваясь к щелканью оленьих копыт и невнятному разговору на улице. «Видать, кто-то из стада приехал», — подумал Ямай. Он надел кисы, затем нащупал впотьмах малицу, напялил ее на себя и вышел из чума в морозную темень.
Две чем-то нагруженные оленьи упряжки стояли возле чума. Около них копошился человек. Тут же недалеко стоял второй и, махая рукавами, снимал с себя дорожную одежду — гусь. Люди показались старику незнакомыми, он спросил: