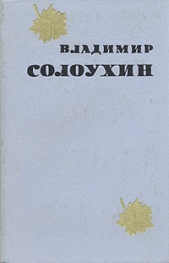На долгую память
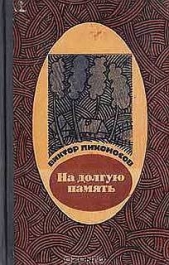
На долгую память читать книгу онлайн
Новая повесть Виктора Лихоносова «На долгую память» как бы продолжает тему уже известных читателю его повестей. «На долгую намять» свидетельствуют о неискоренимых, очищающих связях главных героев с духовными истоками народа. Сердечностью, неунывностью и благородными усилиями старших дорожит и гордится повзрослевший молодой современник нового произведения писателя. Героям Лихоносова свойственно остро чувствовать самое существенное в окружающем мире, свежо и правдиво оценивать события, людей и самих себя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
До самого вечера Никита Иванович сидел у родителей, через дом от жены, держал Толика на коленях, выпивал. К ночи сын потянул его к матери, домой. Он вошел, смирная жена отставляла в духовку борщ, и в комнате уже светилась белая, застланная простынею постель. Что-то боролось в нем. Он страдал, ловя все тонкости ее страстного покорного тела, не подточенного голодной войной, голова туманилась, и вот-вот уже в затемненной тишине, в муках подкатывало прощение.
Она легла первой, он еще сидел, привыкая к мысли, что кончено солдатское одиночество и он в своей избе. Он курил, курил и наливал в стакан из припасенной женою поллитры, временами оскорблено думая, как на этом же месте, пока он лежал там, в окопе, она чокалась после его письма с другим и наутро как ни в чем не бывало писала ему и плакала, чтобы поберег его Бог, что мочи нету переживать за него и что вспоминает она молодые встречи с ним, такие, поверишь, далекие, будто и не они ходили тогда за деревню или пользовались случаем, если мать с отцом оставляли их дома вдвоем… То, что он выносил на войне, как-то сразу согнуло его, и праздник, день за днем бежавший по улицам вместе с сот датскими составами, радостные слезы объятий, родные углы, тайные ласки, жегшие его в стороне, обернулись для него печалью, и самое ужасное, что он никуда не мог сейчас уйти, ничто бы не заменило ему долгой тоски по дому. Жена ворочалась и тем самым как бы звала его, просила прощения, и он вспомнил, как говорили обычно в деревне бабы: «Жена не угодит делом, угодит телом». Он разделся и лег с ней, опять закурил. Она лежала спиной к нему и желала незаметно коснуться его, выгибалась к нему, как будто бы неудобно лежалось ей, мешала высокая подушка, рука затекала, то будто сонная она откидывалась на спину и задевала мужа… «Ерзай, ерзай, сучка, — злостно думал он. — Упаси Бог, чтоб я протянул руку. Жалко только, что в праздник. Встретила победителя. Европу прошел». И тогда мелькали немка, полячка, их чистые тонкие руки и шелковистые постели, и весь тот непривычный русскому быту дух, и то, какими счастливыми были те ласковые встречи после огня, после ежеминутного сознания, что, может, завтра уже и не взглянуть на голубое небо и на женскую грудь.
На фронте он совсем позабыл о неладах с женой и после боя, где-нибудь в дымном паутинном лесу пли на ночь (особенно на ночь), неожиданно остро воображал себя на сибирской улице, и бесстыдные детали доступной всякому радости мутили ему голову, мерещились давней похороненной сказкой. Жена снилась ему как в девятнадцать лет. Снилась и снилась.
Во сне же они и обнялись теперь, в эту ночь. Быть может, это и не было сном, она-то, конечно, не спала, ворочалась и вздыхала; ему дремалось, сознание проваливалось, но порой он вздрагивал и вновь понимал, где находится, жутко и несчастно понимал, что войне конец, он пришел, и днем валялась в его ногах жена; потом забывался, засыпал, и во сне еще стояла картина семейных чувств, и в один такой миг, полусознательно и все же чутко он принял объятие жены, ее теплую ласковую руку и тоже, во сне и не во сне (она-то как бы во сне), поддался, перекинулся на бок и обхватил ее. И тут она поцеловала его, и они проснулись, но не разнялись.
Они разошлись.
Мать увезла Толика в Алма-Ату, сдавала его несколько раз в детский дом, он сбегал, она посылала его на вокзал, учила притворяться беспризорным, чтобы подобрала его милиция. Ребенок мешал новому мужу.
Физа Антоновна только что зажила по-человечески, уже стала привыкать к Никите Ивановичу, снова насела на нее бабья забота — стирать мужу рубахи, выряжать на работу, день проводить в хлопотах по дому или на базаре, и уже не отчаиваться при мысли, что как-то надо добывать сено: в доме был хозяин, ему и вертеться. Успокаивала ее на первых порах и старательность Никиты Ивановича. Он тоже вздохнул легче, даже лицом посвежел, торопился с работы домой натаскать воды, почистить у коровы, наколоть дровишек. Физа Антоновна стирала, гладила, обшивала, по нескольку раз белила печку и, когда он, помывшись, садился у окна к столу, старалась угодить, покормить свежим и потом убрать возле рукомойника, возя тряпкой под табуреткой и рассказывая, где была днем, кого видела и что продала-купила; не раз они прикидывали, чего приобрести из одежды на выходные дни, причем всегда спорили. Никита Иванович из вежливости отказывался наряжаться, перехожу, мол, и в этом, лучше жене что-то справить и сыну, чтобы соседи не тыкали пальцем, не злословили: мол, не успел войти в сиротскую избу, как она отдала ему отцовские костюмы и рубашки, — Физа Антоновна тогда соглашалась повременить.
Подпив, Никита Иванович пускался в обещания.
— Физа! — вскрикивал он, поднимая в руке вилку. — Вот пусть Демьяновна будет свидетелем: через год нам вся улица позавидует! Первым делом разодену тебя как принцессу, будешь, ёхор-малахай, на базаре варенцом торговать в шелковой шале, как цыганка, в ухо повесим сережку из чистого золота, вон у Утильщика мало ли вся-
кого добра валяется, пойду (чего там, мелочёшка) кину ей в чулок две тыщи. Смеешься, старенька, а я тебе говорю точно: позавидуют нам. Ладом позавидуют. Они все босяки и ничего не понимают в колбасных обрезках… А как отпуск, старенька, в Сочи поедем, куплю тебе купальник, поедем людей пугать… Верно, Демьяновна?
— И меня возьмите, — сплевывала Демьяновна семечки и хихикала. — Я буду бутылки из-под пива сдавать.
— А это уж от тебя зависит, ёхор-малахай. Как твой Демьянович решит: опасно тебя, девку, пускать?
— А он давно знает, что я любого залягаю.
— В Большой театр повезу старушку. «О, Ольга-а, отда-ай мо-ой па-ацелу-уй!»
— Там таких, как мы, не пускают. Там в таких нарядах являются, а я в чем — в фуфайке, что пятый год таскаю?
— Ничего, будешь у меня не хуже королевы. Не сразу Москва строилась. Да, жить можно. Кто соломку в лапках тащит, кто мешок муки несет. Старенька, гадом быть, раз уж сошлись — постараюсь. Лишь бы это дело (щелк по горлу) не подкачало. А чо? То ли мы беднее других? Вот как живет русский Никита, смотрите, гады, во, я моряк, и вся ж… в ракушках! Хуже мы, что ли, Утильщика, забор покрасил, подумаешь! Было бы здоровье! Садись, Демьяновна, поближе, Никита Иванович зря не трепется. Наливай!
— А я, сваток, так и сразу поняла: ты с себя скинешь, мне отдашь.
— Э-э, язви тебя, хитра-а, хитра, сучка. Ну уж для тебя разве, ладно, себя обижу, а тебе отолью, — и оп подлил ей из своей рюмки водочки. — Ладом, ладом. За мозоли! Видишь мозоли? Никита Иванович покажет вам.
Неожиданно он сказал как-то вечером о Толике. Он получил известие о прибытии сына через родителей, и в тот день явился докой поздно, лег, не обмолвившись, без ужина в одежде поверх одеяла, да так и уснул. Еще два-три дня оп ходил помрачневший, охотнее во шлея в хозяйстве, как-то чаще спрашивал: «Физа, тебе помочь?» И Физа Антоновна помаленьку догадывалась, что он из-за чего-то переживает.
«Может, задавил кого да не сознается, — думала она. — Гоняет машину не дай бог».
Наконец он открылся. Пришел опять крепко выпивши, не умываясь, сел возле печки, тяжело сопя кривым толстым носом, следя за женой, мывшей после молока глиняные крынки.
— Чего это ты зарядил каждый день? — хотела уже поругаться Физа Антоновна. — Денег некуда девать?
— А чо нам деньги… Деньги трава, корове под хвост.
— Вот новое дело. Вокруг денег вся жизнь вертится. Ни шагу не шагнешь. Нонче за деньги и ценят.
— Ста-аренька… Богаче, чем есть, человек не будет. Была бы голова и дети здоровые… — с некоторой хитростью намекнул Никита Иванович, — а остальное… — махнул он рукой. — Подумай, ладом подумай, чо я сказал.
— Да ты выпил, так начал выкамариваться. Ну чего такое?
— Толик, сын мой, приехал… — сказал он. — Как ты на это посмотришь?
— Как я посмотрю… — мгновенно окаменела Физа Антоновна. — Ты хозяин теперь… Не знаю.
Она скоренько вышла, будто бы понесла ведро в сенки, на самом же деле скрылась от растерянности, хотела подумать, потому что жизнь внезапно осложнялась.