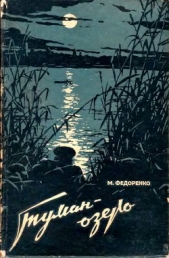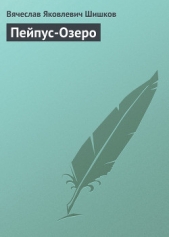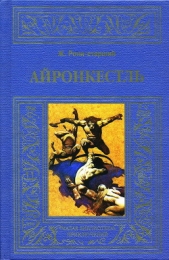Повести и рассказы
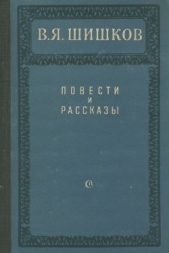
Повести и рассказы читать книгу онлайн
содержание:
пейпус-озеро (повесть) с котомкой (повесть) вихрь (пьеса) рассказы: краля зубодерка в парикмахерской алые сугробы отец макарий чертознай режим экономии торжество черный час редактор дивное море журавлиВнимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Помоги-и-те!!
Резкий, отчаянный голос упал тут же, в ноги, и подхлестнул и взвил душу. Напряг Степан всю силу, какая еще оставалась в нем, какая была в этих алых сугробах, в морозе, в полумгле. Он решительно повернул назад и на бегу, не чувствуя пути, твердил одно и то же:
— Сам сдохну, а тебя, Афоня, выручу… Выручу, выручу, выручу…
Подбежав, он выхватил нож и полоснул в горло дремавшую лошадь. Рухнула, задрыгала ногами и, вывалив язык, грызла снег. Перерезанное горло ее хрипело, хлестала кровь в подставленные ковшом пляшущие пригоршни Степана. Жадно глотал кровь, захлебываясь и урча. И все закровенилось: лицо, борода, рубаха. Глаза пьянели, разжигались. В них быстро нарастала буйная, звериная мощь.
Степан перевел дыхание: «Сыт».
Афоня лежал под двумя шубами недвижимо.
— Афонюшка, товарищ… Повремени чуть-чуть, запри дух… Выручу, не умирай.
Осторожно стащил с него свой полушубок, оделся, плюнул в пригоршню теплой кровью, ударил ладонь в ладонь:
— Айда! Ррррработай!
И, не оглядываясь, только борода тряслась, ударился бежать вперед. Он знает: вот и край перевала. Увидит внизу: дым, огонь, жилище. Он будет звать на помощь, он скатится с кручи к жителям. «Братцы, спасайте человека! Человек замерзает, Афоня… Братцы!..» И чувствует, как коченеет, замерзает сам. Руки совсем зашлись, грудь едва дышит от усталости. Опять та проклятая щель. Как попасть? Волку не перепрыгнуть, широка… Дьявол!
И видит: там, за провалищем, на посеревшем небе, четко маячит всадник.
— Эй!.. — не веря глазам своим, радостно закричал Степан.
Но всадник не остановился.
— Эй! Стой! Стой!
Откуда-то пронесся ветер, взметнул снега, готовил к ночи вьюгу. Степан бросился вдоль бесконечной черной щели, отыскивал узкое место, чтоб перескочить.
— Стой!.. Стой!.. Стой!..
Ветер еще раз ударил вихрем, и не понять: сюда идет или удаляется всадник. Уходит. Ага! Вот, кажется, здесь поуже. Надо перескочить… Уйдет, уйдет…
Вся кровь ударила разом в голову, огонь метнул в глазах: «Спасай». Вложил пальцы в рот, свистнул оглушительно: «Сто-о-ой!!» — перекрестился.
— Эх, пропадай, душа… — и взвился над провалищем.
Страшный, смертный крик пронесся к всаднику. Всадник враз остановил коня.
Сугробы алели.
Афоня подходил к нездешней, райской земле. Он шел по облакам, по тучам.
Пастухи попадались, гнали овец, шерсть на овцах серебряная. «Куда?» «Туда». А тут медведь с исправником в орлянку бьются. «Поддайся, мишка, я исправник». И Афоня: «Поддайся». Глядит: медведь знакомый, — в третьем годе валенки ему, Афоне, подшил. «Маши крыльями, маши!» — кричит орел. «А скоро?» — «Бог даст, к вечеру».
Поля, поля… Будто все выжжено. Саранчи много на нивы пало, надлетают, ударяют Афоню в лоб. Афонин лоб звенит, как колокол: ба-а-ам. Мир поет: «Радуйся, Афоня, великий чудотво-о-рец»! — «А я ведь земли-то, братцы, не нашел… Сугроб нашел». Тут его схватили, начали трясти, бить, ругать. «Пустите! Эй, посторонитесь!» — взрявкал медведь.
В это время стало так темно, так одиноко. Кой-где, кой-где огоньки.
— Нишяво, нишяво, лежи…
Было тепло и чисто. На столе шумел самовар, горы белых лепешек с творогом, кринки, мед. Против Афони, свернув ноги калачиком, сидел на полу татарин в тюбетейке, ласково смотрел на него.
— Помогать надо друг дружке, жалеть надо.
— А где товарищ мой, Степан?
— Какой товарищ? Нету товарища.
Едва шевеля языком, Афоня объяснил.
— Яман дело… Совсем наплевать… Уж десять дней притащил тебя… Давно… Нишяво, нишяво, лежи. Мой пойдет искать. Соседа забирал, шабра, с ним пойдем. Яман дело.
— Он за меня душу положил. Степан-то мой, — проникновенно, горестно сказал Афоня. — Сам загинул, а я живой… Собака я. — Он прикрыл глаза ладонью и всхлипнул.
— Который за людей сдохла, эвот-эвот какой большой, шибко якши, дружески сплюнул татарин. — Шибко хорош, ой, какой хорош!..
— Из-за меня он… Собака я… — замотал головой Афоня. — Сидеть бы мне, собаке, дома.
Татарин опять сплюнул и сказал:
— Земля шибко якши тут… А-яй, какой земля, самый хорош. Работать мало-мало можна, денга колотить можна.
Афоня слушал, то закрывая, то открывая глаза. Хотелось повалиться в ноги этому черномазому скуластому человеку, что спас ему жизнь, и плакать, плакать.
— Нишяво, ладно. Конь твой кидать надо, махан, мало-мало помрил, горлам резал. Двух коней тебе дам: все равно зверь, все равно ветер… Вот какой. На! Денга не надо… Помогать надо. Вот-вот.
Афоня увидел на окне пороховницу Степана и коробочку с пистонами… Как?! Значит, они были у него, у Афони?! А где ж ружье? Но не спросил.
Опять вспомнился Степан, вспомнился белый погост в горах. Но волна ликующей радости, все побеждая, гулко била в берега.
<1925 >
ОТЕЦ МАКАРИЙ
Декабрь. Я сижу на берегу Черного моря и прислушиваюсь к ритмическому гулу его волн. Где-то, вероятно возле Новороссийска, вырвался из-за гор ярый освежающий норд-ост, кинулся на море, взмесил необозримую морскую синь, а здесь, в тихом Сухуми, — лишь отзвук шторма. Но море все-таки гудит.
Здесь тепло, здесь и в декабре лето: всюду цветут розы, дозревают мандарины, набирают цвет древовидные камелии. Но моя мысль по каким-то неведомым путям переносится в любимую Сибирь, в тайгу. И вижу я: это не в море злятся волны, а гудит вершинами тайга, такая же безбрежная, такая же таинственная, как море.
Я гляжу вперед, к анатолийским берегам: вдали, култыхаясь меж валов, блуждает одинокая, в белых парусах, фелюга. А мне грезится, что это бродяга идет по таежным сугробам, какой-нибудь варнак, убивец, Ванька Конокрад.
Ветер ходит над тайгой, гнутся пихты, стонут сосны, и если взлететь на крыльях, — зеленые валы хлещут по тайге. Но кругом зима, декабрь, у бродяги нет крыльев, туго приходится ему, и он спешит к жилищу.
И припоминается мне таежный рассказ. Кто сказывал его — не помню. Может быть, медвежатник дядя Пров за кашей в зимовье, может быть, тетка Акулина, а то какой-нибудь варнак — со многими из них я куривал трубку табаку за время многочисленных своих скитаний.
Ветер ходит над тайгой, гудит тайга, как море. Вихлястой снеговой тропинкой плетется сутулый человек. Бороденка, длинные волосы, постное, со втянутыми щеками лицо, монашеская скуфейка колпаком, за плечами котелок и торба. Одет человек в рванье, в тлен.
Морозный вечер. Холод сушит щеки, знобит глаза.
Бродяга вдруг заулыбался: близко протявкала собака, понесло жилым дымком.
Семейство старого Вавилы садилось ужинать. Вошел странник, сдернул скуфейку и закрестился плохо гнувшейся, онемевшей на холоде рукой.
— Проходящий, что ли? — сурово, по-лесному, спросил Вавил.
— Стра… странник я, — выдохнул пришелец намерзшие слова. — Так точно, милостивец… Странник.
Вавила заслонил глаза от света, крепко прищурился на пришедшего, сказал:
— Ночуй.
За ужином жаловался Вавила человеку:
— Так что совсем без попа, словно собаки. Два года как опился вином отец Семен, превечный покой его головушке! На моих памятях пятый поп спивается у нас. А теперича к нам в такую глушь ни один священник не пожелал пойти. Кругом лес, трущоба, до ближнего жилья больше сотни верст. Сами кой-как женим, кой-как крестим да хороним, гаже некуда, помахаешь кадилом да поорешь, что в башку взбредет, — ну и ладно. Все думаем: вот ужо новый поп объявится, все осветит, всю чертовщину нашу божественную, и похороны, и свадьбы. Какие мы, к лешевой бабушке, попы!.. Да… А я в церковных старостах хожу… Эх, стрель тя в пятку!.. Грехи!..
Блеклые глаза прохожего заострились шильцем. Поерошил пятерней длинные лохмы, елейно, назидательно сказал:
— Что же, православные… Будем так говорить, к примеру: я, к примеру, божий иерей, хотя и плохонький, а поп. И, к примеру, изгнан бысть на поселение по ошибке. Но, по благости божьей, коль скоро та судебная ошибка обнаружилась, аз, многогрешный, возвращаюся домой, питаясь подаянием.