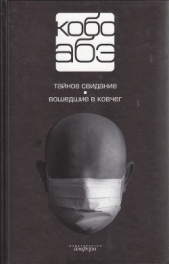Собрание сочинений. Том 3.Свидание с Нефертити. Роман. Очерки. Военные рассказы
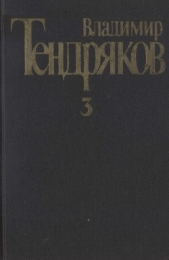
Собрание сочинений. Том 3.Свидание с Нефертити. Роман. Очерки. Военные рассказы читать книгу онлайн
Том составили известный роман «Свидание с Нефертити», очерки об искусстве и литературе и также цикл рассказов о Великой Отечественной войне, участником которой был В. Ф. Тендряков.
Содержание:
Свидание с Нефертити. Роман
Очерки
Плоть искусства. Разговор с читателем
Божеское и человеческое Льва Толстого
Проселочные беседы
Военные рассказы
Рассказы радиста
«Я на горку шла…»
Письмо, запоздавшее на двадцать лет
Костры на снегу
День, вытеснивший жизнь
День седьмой
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Женщина ничего не ответила, равнодушно отошла, оставив дверь открытой, — нелюбезное приглашение: входи, если хочешь. Значит, Нина дома.
Знакомый, как чердак, заваленный пыльным хламом, коридор. Густое, потное тепло перенаселенного жилья.
В байковом халатике до пола, небрежно причесанная, с обычным выражением сонливого покоя на лице, Нина предстала в дверях своей комнаты. Свое удивление она выразила лишь тем, что с минуту стояла молча, с величавым спокойствием разглядывала Федора.
— Как ты поздно! Он уже спать ложится, — сказала она так, словно Федор заходил каждый день.
Он!.. За спиной Нины кто-то зашевелился.
— Извини… Я на одну минутку. Вот шел мимо…
— Да нет, заходи, заходи, будем рады.
— Пожалуй, я лучше пойду… Право, поздно.
И вдруг знакомый голос из глубины:
— Старик, я сейчас оденусь!
Вот те раз!.. Нина отступила в сторону, давая Федору пройти.
В чистой нижней рубахе, в наспех натянутых брюках, босой, сидел на койке Православный, сконфуженно жмурил близорукие глаза.
Нина удалилась на кухню, чтоб поставить чайник.
Комната не изменилась, по-прежнему она походила на просторную пещеру — серый, давно не беленный потолок с пыльными лепными украшениями, раскоряченный, смахивающий на малярские козлы мольберт, исчезла только железная труба, да в старой, в три бронзовых рога люстре горела не одна, а все три лампочки, на каждую из них надеты самодельные колпачки из разноцветной гофрированной бумаги — красный, желтый, синий. Красные и синие размытые пятна падают на стены, в углах по-прежнему полутьма.
Православный водрузил на нос очки, но в глаза Федору глядеть боялся — смущенно улыбался, шмыгал носом, прятал босые ноги под койку. Но выглядел он непривычно: чистая рубаха, сам чистый, выпаренный, даже вихры не торчат — улыбается… Несчастный? Нет, не скажешь.
— Старик! Она — святая, — сглотнув от волнения, произнес Православный.
— Рад, что ты так думаешь.
— Старик, мир полон прекрасных людей. Мы только их не замечаем.
— Не будем преувеличивать.
— Я говорю о людях, старик, о людях! Иван Мыш — ублюдок среди людей. Берегись его.
— Спасибо за совет. Жаль, что он запоздал.
— И не будем о нем вспоминать. В этих стенах запрещено произносить его имя.
— Поговорим о тебе.
— Обо мне?.. Не надо соболезнований. Я легко все перенес. Мне помогли, старик!
— Кто? Она?
— Она.
— И еще?
— Левка Слободко.
— Во то-то и оно. Тебе помогли — кто-то, а не мы, которые четыре года жили вместе.
— Вы славные ребята!
— И только-то. Славные, но в вашей помощи не нуждаюсь. Мы ждали тебя у дверей — ты прошел мимо. Мы ждали ночью — ты не явился.
— Я не мог явиться туда, старик. Там бы я встретился с ним.
— Мы его выгнали.
Православный серьезно и удовлетворенно кивнул головой: «Понятно».
— Ты что-то недоговариваешь, — сказал Федор. — Говори!
— Старик, мне нечего от тебя скрывать.
— И все-таки недоговариваешь чего-то.
— Мне с тобой легко, а вот с Вече теперь было бы трудновато.
— Почему?
— Он честный, он умный, он готов сломя голову идти на помощь — не продаст… Но понимаешь, считает, что его взгляды самые правильные, даже единственно правильные, его вкус безупречный и уж решение, что созрело в его просвещенной башке, — самое наилучшее, род человеческий должен пользоваться только им. Пророк! И я бы готов, старик, идти за пророком. Готов! Сам Америк не открою. Но за этим пророком бегут вприпрыжечку Иваны Мыши. Вспомни, как Мыш смаковал его «баррикады»! Вот в этой компании не хочу быть. Я лучше, старик, пойду за Слободко.
— Но Иван Мыш, поднатужившись, может процитировать Маркса или Гегеля. Ты что же, после этого заявишь — к черту всю классическую философию, если ее такой Мыш смакует?
— Сравнил.
— Поганый червь всегда норовил влезть в съедобный гриб.
— Старик, а так ли уж съедобно то, чем пичкает нас и себя Вячеслав? Мне не по вкусу его баррикады. Баррикады — вражда! Вражда, а не содружество.
— Тогда води дружбу и с Иваном Мышом. Он ведь тоже скоро влезет в искусство, даже больше — станет командовать! И — да здравствует содружество! Он тебя в уста расцелует за такой лозунг.
— Но пока, старик, Иван Мыш с Вече по одну сторону баррикад, а я и Слободко — по другую!
Федора взорвало:
— А кто выступал против Мыша? Кто поднял руку за тебя? Один из всех! Твой Слободко кричал потом — красуется! Ложь! Слободко оправдывает свою трусость. Презираю его! Презираю, как самого себя! Я тоже не поднял руку — ни «за», ни «против», ни «воздержался». Но я хоть не оправдываюсь, мне стыдно за это!
Вошла Нина с чайником. Православный сказал:
— Замнем, старик. Считай, что я не прав.
На шатком столике появились чашки. Одна из них была хорошо знакома Федору — саксонский фарфор, наследство Нининой матери, на донышке марка — синие перекрещенные мечи. Сейчас эта чашка была передвинута Православному.
Нина священнодействовала — в тени под ресницами манящая влага глаз, высокая грудь, белые руки плавают над столом, по-домашнему позванивает посуда. Заводить при Нине разговор об Иване Мыше, ворошить грязную полову — кощунство.
Православный глядит на Нинины руки, и глуповатая улыбка растягивает рот — тает парень. Он даже стал красивее — крепче лицо, не заметно обычной мешковатости, и плечи развернуты, и грудь вперед по-петушиному, хотя и блуждает глуповатая улыбка, но не скажешь — гадкий утенок. А Нина чувствует его восхищение, гордится собой, гордится им, плавают руки над чашками.
— У меня есть один знакомый, — не спеша, с убежденностью заводит она разговор, — главный редактор в издательстве. Я поговорю с ним, и он примет Леву на постоянную работу — художником-оформителем…
— И все врет! Все врет! — восторженно перебивает ее Православный. — Никакого знакомого у нее нет.
— Есть, — голос Нины загадочен и мечтателен.
— Если и есть, то там нашего брата — что мух вокруг меда. Все врет!
— И первое, что мы купим с тобой, — ковер на пол. Большой такой, мохнатый, чтоб ноги тонули.
— Все врет! Ну, все врет, старик! Никакого ковра не купим.
Федору бы хотелось, чтоб не Православному, а ему пододвинули чашку саксонского фарфора. Жаль себя и почему-то жаль счастливого Православного, грустно… И уютно от этой грусти.
С каким-то смирением он вышел снова в сырую ночь.
Он дернул дверь в свою комнату.
Рядом с Вячеславом поднялся сухонький длинноволосый человек в куцем пиджаке, в застегнутой до подбородка рубахе в полоску, в сапогах с широкими голенищами.
— Ты?..
Федор прирос к полу. Перед ним стоял Савва Ильич, морщил лицо в несмелую улыбочку, виновато и растроганно помаргивал. В деревне он все-таки казался шире, плотней, здесь. же совсем ребенок с лицом старичка. И выстиранная, наверно в поезде надетая, рубаха в полоску, и этот древний неловкий пиджачок, и эти громоздкие, старые, с рыжими голенищами сапоги. Сам себе в Матёре он казался франтом. У Федора сжалось сердце при виде старости, бедности и откровенной беззащитности.
Жидкие седые волосы старательно расчесаны, и морщинки, морщинки, знакомые, изученные, полузабытые.
— Ты?.. Здравствуй… Как же так? Каким ветром?
— Да вот взял да приехал… — Руки смущенно разошлись в стороны, словно попросил: прости, если можешь.
— Мы уж давно тебя ждем, — с упреком произнес Вячеслав. — Наконец-то!
— Вот решился… Может, умру скоро, так хоть настоящих людей увижу.
— Савва Ильич извелся весь. Каждую минуту на дверь оглядывался.
Не часто видел Федор на лице Вячеслава ничем не прикрытую доброту и жалость. Он даже поглядывал на Савву Ильича с какой-то размягченной, робкой нежностью.
— Извини, но кто знал, кто знал?
— Да что ты, что ты! Я тут так душой угрелся, что и не заметил, как время пролетело. Мы с Вячеславом Алексеевичем беседовали… Ох ты господи! За такую радость еще извинения выслушивать… Меня извините, что упал как снег на голову. Жил себе, жил да испугался: а вдруг умру и ни разу вас всех не увижу? И вот…
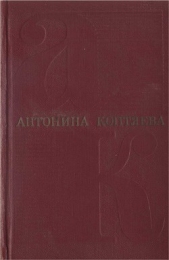
![Собрание сочинений. Том 5. Покушение на миражи: [роман]. Повести](/uploads/posts/books/49841/49841.jpg)