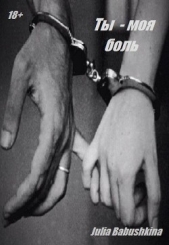Невидимый огонь

Невидимый огонь читать книгу онлайн
В прологе и эпилоге романа-фантасмагории автор изображает условную гибель и воскресение героев. Этот художественный прием дает возможность острее ощутить личность и судьбу каждого из них, обратить внимание на неповторимую ценность человеческой природы. Автор показывает жизнь обычных людей, ставит важные для общества проблемы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Проще всего сейчас, конечно, винить Велдзе, которая, добившись своего, может быть, еще более несчастлива, чем он, — на каких весах взвесишь, кто из них двоих страдает сильнее?
Ингус обвил рукою жену — не в порыве страсти, а с тихой нежностью и мягким участием, сам тоскуя по отзывчивости и сочувствию, но Велдзе не открыла глаз, даже не шевельнулась, и мерный ритм ее дыхания не сбился, не нарушился. И держа Велдзе в объятиях, он почувствовал себя очень одиноким — даже самый близкий человек его не понимает. По мнению жены, он должен бросить пить, и только, чтобы все опять пришло в норму. Но брось он, может быть, настанет день, когда он сунет голову в петлю, и вряд ли это будет лучший выход…
Все их благополучие в последние годы покоилось не на плодах их собственного труда. Об этом шли толки в Мургале на каждом углу, и надо было быть глухим, чтобы этого не слышать, и тупым, чтобы не понять — это не только зависть и злословие, как воображала Велдзе, ведь Стенгревица и его дела местные люди слишком хорошо помнят. И самое разумное, что Велдзе с мамой могли в свое время сделать, это уйти с хутора и в этих краях больше носа не показывать. Но сейчас-то легко рассуждать задним числом. Куда бы они ушли: одна — больная, другая — ребенок? Или мама тогда еще не болела, умом не повредилась? Но когда-то же это началось. Может быть, в тот вечер, когда ее Стенгревиц явился домой, намотавшись за день как черт и пьяный вдрызг, и мама увидала на его груди кровь и стала вытирать, как стирала «кровушку» нынче у него, Ингуса, с такой кротостью и смирением, что Ингуса передернуло. Уже выплакала все слезы и примирилась со своей участью, а может быть, закричала тогда, завыла в голос, проклиная свою судьбу, жена палача…
А теперь они мягко катят мимо всех на своем экспортном авто, купленном на доллары этого убийцы и гада…
Ингус глухо простонал сквозь стиснутые зубы.
Если бы у него, черт побери, хоть была такая дикая уверенность в своей правоте и в своих правах, как у Велдзе! А ему совестно глядеть людям в глаза, точно и человеком он себя чувствует только на старом маленьком «козлике», приобретенном за свои деньги. Если бы он мог, как Велдзе, нареветься вволю, потом залечь и дрыхнуть себе сном праведника божьего, как будто бы достаточно того, что они лежат рядом и что Ингус обнял жену за талию…
Ну что делать, ну как жить? Жить-то ведь надо — нельзя же врезаться в первый попавшийся столб или присматривать балку поближе. И решать это все ему самому, никто за него этого не сделает, и уж тем более Велдзе; она борется героически, но лишь за покой и согласие, за соблюдение приличий — за теплое семейное гнездышко без тревог и свербящих мыслей, которые гложут, не дают спать по ночам, а лежать не смыкая глаз вредно для нервов и от бессонницы пойдут морщины. Но он так и не может придумать ничего путного — он может только махнуть, завиться куда-нибудь, в который раз напиться в дым, отдаляясь все больше от своего ребенка и делая жизнь Велдзе мукой и адом…
На дворе нехотя брезжила серая заря, и в ее блеклом свете Велдзе тоже казалась необычайно бледной — темные запавшие глазницы придавали худощавому лицу выражение застывших страданий, которые не сглаживал и не стирал даже сон, черты были недвижны, как на посмертной гипсовой маске, дыхание стекало с губ совершенно беззвучно, и, хотя рука Ингуса ощущала тепло родного тела, сквозь легкий туман подкрадывавшейся дремоты ему нежданно померещилось, что это окоченевший лик мертвеца. Прогнав сон, Ингуса вдруг обуял безотчетный ужас, в мгновенном озарении словно открывая ему глубину и силу собственных чувств, которые в череде будней и раздоров как бы закатились за горизонт обыденности.
— Велдзе!..
Ингус притянул ее крепче к себе, приник лицом к живому теплому плечу, грудь его сотрясали немые рыдания. Велдзе вздрогнула и непроизвольно чуть отстранилась, так как его борода и волосы были по-прежнему мокрые, но она не проснулась и сейчас.
Велдзе открыла глаза лишь через несколько часов, и тишина в доме и воскресная леность, возможно, убаюкали бы ее вновь, если бы вставшее над горизонтом солнце не било в лицо и если бы Ингус так не храпел, да еще, нахал, в самое ухо. Спать с ним было сущим мученьем. Он не только сопел с присвистом, но и, повертываясь во сне на другой бок, нередко стягивал с нее одеяло и разбрасывался, занимая добрых две трети тахты, и спасибо еще, что ее законное место было у стенки, не то она как пить дать скатилась бы ночью на пол, и винить было бы некого: Велдзе могла упрекать мужа только за то, что он делал бодрствуя. Ей оставалось либо примириться с тем, как оно есть, либо спать отдельно, что ей и приходило в голову, но она втайне этого боялась, страшась еще большего и, может, безвозвратного отчуждения. Мужа и так приходилось держать обеими руками, чтобы он, болтаясь обычно в подпитии, не запутался в какой-нибудь юбке, как в свое время Страздынь. На Ингуса многие заглядывались — плечистый, живой, отчаянный, — надо быть слепой, чтобы этого не видеть. И, брошенная однажды, Велдзе больше всего боялась, что прошлое может повториться.
А что, если у женщин в их роду вообще такая судьба? Отец покинул маму. Ну ладно, Советская Армия наступала, и отцу никак нельзя было здесь остаться. Но потом — ни единой строчки, будто камень в воду ухнул. Почти тридцать лет никаких признаков жизни… А Страздынь бросил ее. И если бы еще ради какой красотки, а то — господи твоя воля! — спутался с простой дояркой из Ауруциемса: навозом пахнет, оплыла жиром и вдобавок еще на четыре года старше, смех просто. Возможно, теперь кусает себе пальцы… Как-то раз она затормозила нарочно у автобусной остановки перед самым его носом: «Ну, Харальд, может, подвезти?» Отшутился: «Соблазняешь. А я уж больше двадцати лет соблазненный», и все ж не утерпел, не отказался и полез в машину. «Как же тебе живется, Харальд?» — «Не жизнь, а малина!» Ха, оно и видно! Потрепанный свитер, брюки неглаженые, на плечах линялый брезентовый рюкзак — вахлак, да и только! Удивительно еще, как к нему не прилип от его крали навозный дух, и воняет он только «Примой» или «Севером», словом, дрянным дешевым табаком. «Шикарный у тебя, Велдзе, мотор, да-а!» — откидываясь на сиденье, одобрительно сказал он. А ты как думал, серый чижик?.. Возможно, это не так уж благородно, но ах как сладко прокатить этаким манером свою бывшую половину, которая некогда тобой погнушалась и пренебрегла, — включить радио, прикурить от зажигалки, на прямых участках дороги разогнаться до девяноста километров в час… сознавая к тому же, что Ингус на голову выше этого облезлого типа…
И вот Ингус лежит с ней рядом, обхватив ее рукой за талию, такой близкий, теплый, сонно-расслабленный, и только безудержно, отчаянно сопит. Она повернулась на бок и легонько его толкнула:
— Ингус…
Он фыркнул, лениво и медленно заворочался, что-то такое промычал, но храп все же прекратился — и настала тишина. Рука на Велдзе тоже непроизвольно шевельнулась, на какой-то миг вроде отстранилась, потом вновь обхватила сильным, но очень бережным объятьем, как бы защищая. Растроганная и оттаявшая, Велдзе прильнула к мужу всем телом, воспоминания о Страздыне в эту минуту показались ей вдруг кощунством, и она неслышно, одними губами шептала: «Ингус, Ингус…» Мир царил между ними и согласие, казалось, что и желать-то уж больше нечего, и ей подумалось — почему так не может быть всегда, почему мгновения счастья в их жизни стали так коротки и мимолетны: вспыхнут как молнии, и тут же погаснут в серых буднях, и вновь растворятся, будто их не было, в распрях и перекорах.
Чего им недостает, чтобы они всегда были счастливы? Такой малости — только желания! Но разве у нее нет желания? Ах, да у нее целый воз желания и еще с верхом, и ничего она так не жаждет, как не дать Ингусу спиться и себя погубить. Его, как дитя, надо любить и жалеть. Ингуса надо беречь ночью и днем — тоже как дитя, чтобы он не вздумал играть с огнем и бегать по крышам, беспечный, отчаянный, ветреный.