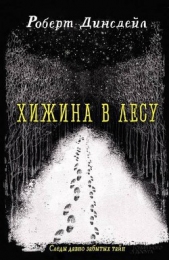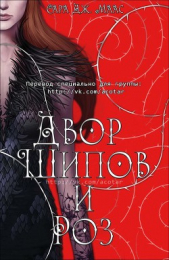В русском лесу

В русском лесу читать книгу онлайн
В книгу Ивана Елегечева вошли лучшие его рассказы о людях тайги, созданные за последние годы. Пишет он о людях Западной Сибири и Приобья с большой теплотой и любовью.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И еще жалуется, бывает, Анна Самсоновна на мужа: любит-де Ирасим их совместных дочек больше, а к ее сыновьям вроде относится с прохладцей. Анну Самсоновну за такую жалобу обычно журят: грех-де тебе, баба, обижаться на мужа, честный, добрый, троих племянников-богатырей вырастил, отца им заменил. Не он, Ирасим, то кто знает, как бы их судьба обернулась. «И то верно, — тотчас соглашается Анна Самсоновна. — Зря я на него наговариваю».
Единственная неурядица в семейных делах у Анны Самсоновны и Ирасима — это обоюдная ревность. Хмурым делается Ирасим, когда жена при виде плясуна плачет. А Анна Самсоновна потихоньку горевала: неодинаковая любовь у Ирасима к родным детям и племянникам...
Приветливые хозяева Анна Самсоновна с Ирасимом угощают меня чаем.
Дом Коростелевых — на перекрестке двух улиц — Луговой и Комсомольской — в пору моих юных лет был высокий, под свежим тесом. Сейчас он врос в землю, даже скособочился от времени, сгорбатился, как старик дряхлый, подернулся зеленоватым мхом. Под окнами черемуха осыпает листву, горит густо рябина. Изба вещами заставлена: широкая железная кровать, комод, гардероб, стол круглый посередине, в простенке — рамка, за стеклом — карточки, фигурки стоящих и сидящих людей, улыбающихся и печальных — Аполлинарий в форме солдата, дядя Илларион с бородкой, как у Калинина.
На столе медный самовар поет с подвывом, похоже, собачонка на морозе поскуливает. Ирасим сидит напротив меня, наружностью он смугл, черен, как все люди, большею частью находящиеся на воздухе. Шея сухая, жилистая, в морщинах, что старый, поношенный сапог. Глаза круглые, серые, смотрят умно, по-молодому, губы добрые, тончают, подсыхают к старости.
Анна Самсоновна, в сравнении с мужем, выглядит старухой, ей за шестьдесят. Тоненькая, сухая, горбатенькая. Как у всех худых в старости женщин, лицо у нее изборождено морщинами, глазки узкие, светлые, два передних зуба торчат. Что говорить, Анна Самсоновна не выигрывает от сравнения с мужем. Смотрела она вниз, будто в чем-то провинилась...
Разговор за столом, как всегда, на разные темы.
— Видел ли, сколько домов-то позаколочено? — спрашивает меня тоненьким, почти детским голоском Ирасим. — Нету людей, кто куда разбежались. Как золото в горе кончилось, так люди кто куда. На днях еще один дом заколотили напротив, теперь в соседях у нас никого не осталось.
— А кто уехал?
— Да Марея Кузнечиха, — охотно отвечает Ирасим. — Поди, не забыл? Трое, поди, помнишь, Кузнецовых было: Александра, Михаила да Павел, бурильщик. Александра с Михайлой сразу после войны, как вернулись с фронта, выехали, а Марее ехать было некуда: муж убитый, дети малые, куда с оравой кинешься. Пока поднимала детишек — состарилась.
— Марея Кузнечиха давно бы уехала, — вступает в разговор, подсев к самовару, Анна Самсоновна. — Дети зовут к себе — внучат нянчить, да со стороны ей была помеха.
— Какая помеха?
— Ирасим ей помеху учинял, — сказала Анна Самсоновна, кивнув головой на мужа. — Все уговаривал: останься! — она и откладывала с году на год выезд, покуда ныне не собралась.
Я молчу. Мне, конечно, интересно знать, почему отговаривал Ирасим Марею Кузнечиху, чтобы она не уезжала из Берикуля, но я боюсь быть нескромным. А Марею Кузнечиху я даже очень хорошо помню. Это была маленькая, юркая женщина с носиком пуговкой и смеющимися глазами. Детей ее, тогда малышей, я не помню, а она сама так и стоит перед глазами: согнулась в три погибели, тащит за собой на санках возок сена или дровишки...
— Верно, было такое, уговаривал, — подтвердил Ирасим. — Работа у меня такая... — И, обращаясь ко мне: — Людей нету, работать в лесу некому, каждый человек, даже старик, который мне хочет помочь, для меня дорогой человек. Марея же Кузнечиха ловко так сосновые семена собирала. Такой работницы мне не найти, — с кем теперь я план по семенам выполнять буду?
— Семена, семена! — недовольно выговорила Анна Самсоновна. — Не в семенах тут дело, она детям своим позарез нужна... По нонешним временам без няньки не обойтись.
— Старая песня — надоело! — отмахнулся Ирасим. — Няньки, пеленки...
— Вот и поговори с таким, — недовольно сморщилась рассерженная Анна Самсоновна. — С одного взгляда видно, какой из него родитель: черствая душа!
За столом водворилось молчание. Ирасим цедил, причмокивая, с блюдца горячий, густой чай; Анна Самсоновна с несчастным лицом смотрела в сторону. Чувствовалось, что затронутая в разговоре тема была больная. Мне хотелось начать о чем-нибудь другом, чтобы не было за столом этих гнетущих пауз, и я, наверно, нашел бы, о чем спросить Ирасима, но снова заговорила Анна Самсоновна.
— Нас ведь тоже, — заговорила она, обратившись ко мне, — дети к себе зазывают. У старшего сына двоешки, а они оба с женкой работают. Зову старика: поехали — поможем, — не хочет. Уцепился за этот рудник — не оторвешь. А чего тут сидеть! Все уезжают, а мы разве хуже!
— Никуда я отсюда не поеду! — решительно говорит Ирасим. — Хошь — уезжай, а я здесь навсегда останусь.
— Вот и дурак! — сердилась Анна Самсоновна. — Старик уже...
— Я пока не старик...
— Вот и врешь, — выговаривала Анна Самсоновна. — Может, видом ты еще и молодой, а нутром трухлявый. В саму пору тебе возле детей обогреваться.
— Свой очаг греет...
— Очаг, жизнь мою ты заел... — Анна Самсоновна зашвыркала носом и стала вытирать лицо коротким фартучком.
Я не пытался встревать в ссору между супругами, скажу лишь, что я не мог поддержать Анну Самсоновну. Я попытался отвлечь супругов: стал расспрашивать про одних-других, кто меня интересовал: Баркины, Кретовы, Лугачевы, — где они? — Ирасим отвечал неохотно; Анна Самсоновна и вовсе скрылась за перегородкой.
Отложив беседу до другого, более подходящего случая, я попрощался, оставив Коростелевых одних.
Анна Самсоновна, узнал я, давно уже точит Ирасима за детей — не за дочек, которых, как ей кажется, он любит больше, чем племянников, посылки им шлет в Алма-Ату, где они проживают со своими семьями, а за своих детей, рожденных ею от первого мужа Аполлинария. Началось это еще с первых послевоенных лет, когда Анна Самсоновна сошлась с Ирасимом для совместной жизни. Закапризничает, бывало, парнишка или проказы устроит, Ирасим строго прикрикнет, — у матери обида, на глазах слезы. Ночью Анна Самсоновна выговаривает мужу: характер у тебя злой, Ирасим! Не любил ты, видать, своего брата Аполлинария, раз к детишкам его такой жестокий.
— Не жестокий я, — отговаривался Ирасим. — А для детей строгость нужна.
— Это зло, а не строгость! — не соглашалась Анна Самсоновна. — Зря согласилась я с тобой жить: не видать моим детям от тебя добра.
— Ну и дура, — убеждал Ирасим. — Жалость у меня к детям, и к тебе...
— Жалость! — цеплялась Анна Самсоновна. — Вот оно что! Значит, ты из жалости... Ежли так, незачем нам с тобой проживать совместно.
— Замолчи, Анна! — упрашивал жену Ирасим. — Завтра мне вставать рано, ехать далеко. Дай поспать маленько, отдых телу требуется.
— Вот ты какой, замолчи! Отдых! — ворчала, всхлипывая, Анна Самсоновна. — Тебе правду в глаза, ты сразу с криком.
— Да не я, ты кричишь.
— Я баба, а ты мужик — и связываешься.
С норовом была Анна Самсоновна, с «карахтером», не раз собирал Ирасим свои вещички в фанерный чемоданчик, но как попадутся ему на глаза парнишки, сыновья брата Аполлинария, так жалость за сердце скребком скребет, и он вещички из фанерного чемоданчика выложит.
А потом свои дети народились, две дочки-погодки, появилась у Ирасима своя, настоящая семья, покинуть ее Ирасиму и вовсе стало невмочь. Да и Анну Самсоновну полюбил всей душой. Ко всем детям старался относиться ровно, хотя было это для него трудно: дочки росли тихие, послушливые, сыновья и озоровали, и грубили... Пока росли да учились ребятишки, приходилось много работать, чтобы накормить их и одеть: вспахивал громадный огород, сажал картошку и всякий овощ, возил «продукцию» на базар, стоял за торговым прилавком то с капустой, то с огурцами. И шишковать приходилось по осени — много заготавливал ореха, сдавал его заготовителю, а в иной год вывозил на продажу в город. Вместе с тем и лесное дело, за которое он получал небольшую зарплату, запускать было нельзя. Жилось Ирасиму трудно, ни минуты отдыха не знал Ирасим, подымая на ноги пятерых детишек.