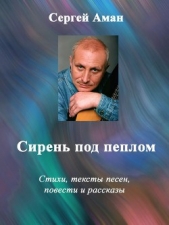Капитан Кирибеев. Трамонтана. Сирень
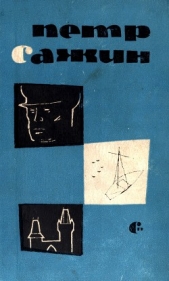
Капитан Кирибеев. Трамонтана. Сирень читать книгу онлайн
В книгу Петра Сажина вошли две повести - «Капитан Кирибеев», «Трамонтана» и роман «Сирень».Повесть «Капитан Кирибеев» знакомит читателя с увлекательной, полной опасности и испытаний жизнью советских китобоев на Тихом океане. Главным действующим лицом ее является капитан китобойного судна Степан Кирибеев - человек сильной воли, трезвого ума и необычайной энергии.В повести «Трамонтана» писатель рассказывает о примечательной судьбе азовского рыбака Александра Шматько, сильного и яркого человека. За неуемность характера, за ненависть к чиновникам и бюрократам, за нетерпимость к человеческим порокам жители рыбачьей слободки прозвали его «Тримунтаном» (так азовские рыбаки называют северо-восточный ветер - трамонтана, отличающийся огромной силой и всегда оставляющий после себя чудесную безоблачную погоду).Героями романа «Сирень» являются советский офицер, танкист Гаврилов, и чешская девушка Либуше. Они любят друг друга, но после войны им приходится расстаться. Гаврилов возвращается в родную Москву. Либуше остается в Праге. Оба они сохраняют верность друг другу и в конце концов снова встречаются. Для настоящего издания роман дополнен и переработан.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Иногда Наталка одна кручинилась — брала Сашка в лодку и выгребала на ту сторону реки, подальше от дому, и там пела печальные до слез песни. Иногда на нее находило — брала Сашка на руки, прижимала к груди и ну ласкать и целовать! Ой же, как хорошо было с ней Сашку! Но вот наступили опять жаркие дни, словно лето возвернулось. Хорошо было в доме: пахло яблоками и свежим хлебом, — и вдруг Кондрат объявил, что пора ехать: он все уладил. И в дом пожаловал новый хозяин.
На рассвете Наталка, Кондрат и Сашко погрузились на подводы, где нашли себе место и отцов чудо–сундучок, и самовар деда Ничипора, и кованый сундук, стоявший у Шматьков бог знает с каких времен, — словом, весь скарб, вплоть до чугунков, макитр, ухватов, таганов и сияющего, как солнце, таза для варки варенья, и даже ступа и косырь.
Разместились так: Кондрат и Наталка на первой подводе, а он, Сашко, на второй, которая шла вслед за первой. Дядя Петро, старый опытный возчик, посадил Сашка рядом с собой. Свистнул бич, лошади замотали головами, и пошли крутиться колеса, поднимая жирную приднепровскую пыль. Пошли мелькать версты, и только птицы в небе казались неподвижными да небо медленно ползло куда–то назад.
Кто–то сказал Сашку, что земля крутится, а на самом деле небо, ну там месяц да солнце крутились, и еще колеса бестарки, а земля не-е… земля оставалась землей. Когда еще был жив дед Ничипор, тоже говорили, что земля крутится, а ведь врали. Дед Ничипор доказал это всем простым способом, хотя и не был ученым человеком: дед воткнул с вечера палку в землю, сделал на одной стороне ее метку и при свидетелях сказал, что если палка к утру повернется в другую сторону меткой, — значит, правда есть на стороне ученых. И что же? Палка не повернулась в другую сторону…
Однако колеса бестарки крутились, лошади бежали бодрой рысцой, и дядя Петро мурлыкал под свист сусликов какую–то унылую древнюю песню, повторяя почти одни и те же слова… В Голой Пристани погрузились на пароход, который доставил их в Херсон. Там неизвестно зачем жили два дня. Потом сели на новый большущий пароход и пошли вниз по реке к морю.
На пароходе Сашку было куда веселей, чем в степи. Что степь? Она у него в глазах еще с того часа, когда впервые, отвалившись от материнской груди, сытый и довольный, он вдруг взглянул на нее: на колыхающиеся травы, на скачущий по их верхушкам бешеный ветер — и замер от восторга…
Слушая рассказ Данилыча, я живо представил себе и «ридный степ», и хату, стоящую на берегу реки, и сидящую на крылечке мать Сашка, и крохотного хлопчика на ее коленях, замершего от восторга при виде раскинувшейся перед ним безмерной красоты. Суча ножками, пуская пузыри, он что–то курлыкнул, повернул голову и увидел над степью такую синь неба, что его крохотное сердечко от восторга забилось еще быстрее. А когда он услышал клекот степных орлов и нежную песенку жаворонка, то так заерзал, что чуть не слетел с колен матери. Мать легонько шлепнула его и сказала: «Лежи ты!» Сашко с недоумением посмотрел на мать большими карими глазами.
«Ишь ты, обиделся, — сказала мать, — ну, гляди, как в небе птички купаются. А степ–то какой, а?!»
Конечно, Сашко не понимал ничего. Да и когда вырос, как–то быстро пригляделся к степи. Его тянуло к лиману и к неспокойным водам реки. Вот поэтому ему на море, где все было ново, показалось интереснее, чем в степи: как же, кругом говорят «Черное море», а оно вовсе не черное, а темно–голубое, а когда злится, зеленое какое–то… Около парохода крутились дельфины — их называли «морскими свиньями», а они вовсе не были похожи на свиней, — они такие же, как рыбы, что продавали рыбаки в Голой Пристани и в Херсоне, только без чешуи…
Из Ахтарей тоже ехали на двух кубанских бестарках. Опять крутились колеса, всхрапывали лошади, и возница пел свои грустные кубанские песни. Дорога в станицу Гривенскую, что привольно раскинулась среди кубанских плавней, недалеко от Кирпильского лимана, была не похожа на приднепровскую: лошади то и дело въезжали в густые заросли камыша или шлепали по воде. Над головой иногда свистели крыльями утки, а порой крутился стрепет. Высоко курлыкали журавли, летевшие куда–то в дальние страны…
…Долго добирались до Гривенской, и, может быть, лучше было вовсе не добираться до нее! Недаром Наталка плакала в Голой Пристани: уже на другой год после того, как была сыграна свадьба (а год пролетел незаметно), свекор, этот рыжий лешак, и черная, как галка, свекровка начали «характер сказывать». Что их толкнуло на это? Ведь они приняли Наталку очень сердечно, и первое время что свекор, что свекровь не знали, куда ее посадить и как угостить!
— Шо тут говорить? — сказал Данилыч. — Кулаки, Лексаныч, и в Америке кулаки. Как говорится: «Смола да вар — похожий товар», цена им везде одна… А, видишь ли ты, стало их бить сомнение: ту ли невестку они в доме держат? Во–первых, она всех мужиков в станице с ума свела, и бабы в каждой казачьей хате грозились ей хвост обрубить… Ну, да это еще не главная беда, нет! Не из–за этого они, сволочи, свели в могилу мою тетку–красавицу… Дело, видишь ли, в том, что Наталка прожила с мужем год и не стала чижолой… Ну, была не способна, что ли… Черт знает, отчего это бывает! Дохтора сами не знают — может, чего подняла, а может, какая женская неувязка у ей была — кто знает… Григорий–то Матвеевич наследников хотел: кому же добро–то оставлять? У Григория Матвеевича, кроме Кондрата, одни девки… Им, что ли? А добра–то у Донсковых было на миллион! Дом в два этажа, скот, птица, сад… Яблоков в саду — страсть, винограду — ужасть, а груши как золотые и ростом с кулак — дюшес и бергамот… Ну вот куды это все девать–то?
В старое время мужик дочерьми не обнадеживался, с ними одна морока: девка подросла — добро из дому унесла. Другое дело сыновья… «Толковый сын — правый глаз отца» — так говорилось в старину.
У Донсковых сначала семья–то была как есть в ажуре — кроме девок, был еще Флегонт… Был да сплыл… За убийство хорунжего его лишили казачьего звания и в Сибирь закатали… А Кондрат–то ведь был не родным сыном Григорию Матвеевичу, а племянником. Брат Григория Матвеевича, видишь ли, вышел из казачьего сословия, когда Кондрата и в помине не было. Потянуло его на железную дорогу. Но он вместо счастья на чугунке могилу нашел, когда Кондрату всего год был… Попал под поезд. А когда Кондрату стукнуло два года, от черной оспы мать померла. Остались двухлетний Кондрат с десятилетней сестренкой сиротами. Пришлось Григорию Матвеевичу взять их к себе. Сестра — настало время — замуж ушла, а Кондрат остался у Григория Матвеевича, которого почитал за отца и называл отцом, а привилегиев казачьих не имел и в войске не числился. Вот, между прочим, потому и попал он на флот.
— Вот в такую комбинацию и угодила тетка Наталка, — сказал, тяжело вздохнув, Данилыч. — Ни, ни, — возразил он, как бы отвечая на мой вопрос, — не обижал ее Кондрат, ни, зря клепать не буду… Поначалу у него не было к ней заносчивости, а свекровь, как я уже говорил, очень ее жалела, — к чижолой работе не допускала; шо до свекра, — тот, словно обожженный ее взглядом, всегда краснел при ней и говорил ей «вы», шо он позволял себе только перед их благородиями — казачьим начальством. Но когда им стало видно, что Наталка какая была тонкая, как былинка, такой и осталась, вот тут–то и пошли намеки да попреки… Наталка стала худеть и разом дурнеть.
Конечно, она понимала все. А как же? Чула, Лексаныч, все, да сделать ничего не могла над собой. Как–то она заикнулась Кондрату. «Давай, говорит, усыновим Сашка… Сиротка он, а мне — племянник, тебе — дитё друга по морской службе, а?!» Кондрат вроде как бы колебнулся. «Ладно, говорит, с батей обговорю, как батя скажет…»
— И вот, — продолжал Данилыч после того, как раскурил цигарку, — сижу я как–то возле Наталкиных коленей — волосы она расчесывала мне, — я ведь хлопчиком–то был страсть какой кудрявый, не то шо сичас: семь волос — и все густые… Да-а, сижу я, и тут входит Григорий Матвеевич — на морде зла, как снега зимой в поле. Рыжими зенками по мне как стрельнет, а голосом ласково, словно пышку в мед кунает: «Выдь, говорит, Лександра, в сад, мне надо с Натальей погуторить…»