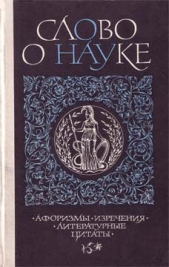Борьба за мир

Борьба за мир читать книгу онлайн
Первая книга трилогии о Великой Отечественной войне и послевоенном восстановлении писалась «по горячим следам», в 1943-47-м годах. Обширный многонаселенный роман изображает зверства фашистов, героический подвиг советского тыла, фронтовые будни. Действие его разворачивается на переднем крае, в партизанском лагере, на Урале, где директором военного завода назначен главный герой романа Николай Кораблёв, и на оккупированной территории, где осталась жена Кораблёва Татьяна Половцева…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Линия фронта, отмеченная булавками с красными флажками, тянулась с севера, огибая Ленинград, спускалась к Ярцеву, Вязьме, шла на Брянск, Орел, Белгород, Харьков и у Таганрога падала в море.
Да-a. Огромный кусок, — с тоской подтвердил Лукин.
Если бы просто кусок. А то ведь тут заводы, фабрики Белоруссии, Киевщины, Днепропетровска, Николаева, Донбасса. Это миллиарды рублей и пятьдесят — шестьдесят миллионов жителей.
Лукин встал из-за стола и нервно прошелся.
Николай Степанович! Ведь вам известно, я нетерпим: в этом отношении для меня все равно — кто: директор ли завода, нарком ли, или рядовой рабочий. Вы там, на горе, говорили одно, а теперь — чего крутите? Вы сомневаетесь? Смотрите, поссоримся и надолго, — маленький, невзрачный Лукин вдруг стал ершистый и наступательно сильный.
Николай Кораблев еле заметно улыбнулся, говоря про себя: «Люблю же я его», — и резко произнес:
А вы верите?
Да. Верю.
Вера — штука хорошая, — в карих глазах Николая Кораблева блеснули искорки превосходства. — Хорошая штука — вера, — повторил он и вдруг со всей силой обрушился на Лукина: — А помните, как Филипп Македонский сокрушил Афины? Афины представляли собой культурнейший центр, в Афинах жил знаменитый философ и оратор Демосфен. Так вот этот самый знаменитый Демосфен выступал против полудикаря Филиппа и вселял веру в народ. Веру-то вселил, а не вооружил… и Филипп вскоре наголову разбил афинян, а разбив, напился пьяный и стал плясать среди трупов побежденных.
Вы что ж, ждете, что гитлеровцы будут плясать среди наших трупов?
Я не жду… и не хочу… но они уже пляшут вот здесь — в Донбассе, на Украине, в Белоруссии, да и по всей Европе. Бросьте трепаться и поймите: они пропляшут по всей нашей стране, если мы только и будем долдонить: «Победим, победим» — и ничего не будем делать для победы. И еще поймите…
Знаете что, — вскрикнул Лукин, — таким тоном не говорят даже с самыми близкими друзьями… а я не давал вам права так говорить со мной!
Ох, — со стоном охнул Николай Кораблев, видя, как Лукин позеленел, и, быстро подсев к нему, обнял его за худенькие плечи, затряс, говоря мягко: — Простите. Простите меня, пожалуйста. Ведь я вас люблю. Ну и простите. И поймите, я на вас покидаю то, без чего победить нельзя, — завод. Да. Да. На вас, — ответил он на мерцающий взгляд Лукина. — Альтман остается моим заместителем. Он человек умный, даже талантливый, но маленечко самодур: он не верит в силу коллектива, у него много ячества. Вот я вас и прошу: ни под каким видом не давайте Альтману расшатывать коллектив. Расшатаете рабочий коллектив — этим самым нанесете страшный удар заводу, а без завода вся ваша вера в победу — брехня.
В комнату в легком розовом платье вошла Надя. Она знала, что это платье нравится Николаю Кораблеву, и намеренно надела его. Поставив на стол чайник, стаканы, варенье и холодную закуску, она недовольно сказала:
Шумите очень, Николай Степанович. Вредно вам это: вон жила на виске как надулась, — и, разливая чай, по-девичьи грустно добавила: — Вот теперь и останется ваш чайник сиротой, а с ним вместе и я.
Николай Кораблев потер лицо ладонями, особенно крепко виски, и только тут до него дошли последние слова Нади, и он, не то сердясь, не то обижаясь, сказал:
Чего это ты, Надюша, как над гробом?
Та перепугалась.
Что вы, что вы, Николай Степанович? Я просто хотела… Ну, сами знаете, как мне здесь одной-то…
Дверь медленно отворилась, и через порог переступила Варвара Коронова. Она вошла в комнату, не постучавшись, словно тут постоянно жила, и невидящими глазами посмотрела вокруг. Увидев Николая Кораблева, она качнулась к нему, всплеснула руками и, как бы пробуждаясь, воскликнула:
Как же это… уезжаете!..
«Вот сейчас ее и надо оборвать», — подумал Николай Кораблев, но, сознавая, что поступить так не в силах, мягко произнес:
Я ненадолго, Варвара. Садитесь, попейте с нами чайку, — и пододвинул ей стакан с чаем.
Варвара осторожно села на краешек стула. Была она столь же красива, как и всегда, но теперь нескрываемая тоска придала всему ее лицу, глазам особую женскую притягательность.
«Как она похожа на Еву Микеланджело: да, вот от таких заселяется земля», — подумал, мельком глянув на нее, Николай Кораблев.
«Бабочка пошла в открытую», — рассматривая ее всю, решил, уже остывший, Лукин.
А Варвара не знала, что делать, как вести себя. Она даже спохватилась, что напрасно села за стол, за которым сидят директор завода и парторг, но эта неловкость в ней тут же пропала, и ею снова овладела непреоборимая тоска: «Уезжает, уезжает», — твердила она про себя, понимая, что бессильна удержать его. Да вряд ли она и хотела этого — удержать. У нее уже давно пропало то открытое, обнаглевшее. Теперь она просто хотела видеть его, слушать его, смотреть на него. И вот он уезжает. Возможно, что именно она, Варвара, единственная, своим сердцем почувствовала: Николай Кораблев уезжает не на месяц-полтора, а надолго, очень надолго или, как она в столовой сказала, «навовсе». И наступают последние минуты: скоро подадут машину, он сядет рядом с шофером, и машина унесет его в неведомые для Варвары края. А Варвара останется одна. Одна! Разве кто здесь поймет ее тоску и разве кому можно будет сказать об этой тоске? Ведь это только он понимает ее, бережет ее… и уезжает. Не зная, что сказать, она торопливо проговорила:
Вы моего брательника помните, Николай Степанович? Он зимой к вам приходил?
Да, да. Помню.
В Москве он теперь. Поклон ему передайте.
Да где же я его там увижу?
Чай, на базаре.
Николай Кораблев еле заметно улыбнулся, думая: «Сколько непосредственности в ней».
Лукин засмеялся.
Ты, Варвара, полагаешь, что Москва, как и Чиркуль: вышел на базар — и всех увидел.
Варвара вспыхнула, умоляюще посмотрела на Кораблева, и тот, чтобы сгладить ее смущение, сказал:
Обязательно. Непременно передам поклон вашему брату. Разыщу и передам, — и, ругая себя: «Зачем я с ней так? Надо погрубее. Ведь я укрепляю в ней то, что есть, а оно мне не нужно… не нужно».
И вдруг все то же беспредметное раздражение, которое за последние дни мучило его, снова овладело им.
Собираться надо, Надюша, — сказал он и, подняв с пола чемодан, поставил его на стул, затем посмотрел на белье.
Белье, приготовленное, отутюженное заботливыми руками Нади, лежало на подоконнике. Николай Кораблев хотел было взять одну из стопочек, но в эту минуту к крыльцу коттеджа подкатила машина, и со всех сторон потянулись люди.
Первым в комнату вошел Альтман. Обеими руками поправляя прическу с затылка, как это делают женщины перед зеркалом, он, необычайно поблескивая глазами, выпалил:
У нас на заводе, Николай Степанович, утверждают, что вы уезжаете «навовсе». Правда, нет ли?
Во всем поведении Альтмана: в его торопливости, в том, как он быстро поправлял прическу, как сел, закинув ногу на ногу, — во всем было что-то подчеркнуто ненатуральное.
«И чему это он так радзется? — подумал Николай Кораблев, продолжая складывать белье в чемодан. — Что я ему, шоколадку, что ль, подарил? Я ему оставляю завод — корабль в открытом море: может быть тишина, а может быть и буря. А он прыгает, как козлик», — и вслух, через силу сдерживая себя, как будто речь шла о пустяке:
Вы ведь знаете решение наркома: я еду на полтора месяца. Зачем же всякие сплетни подхватываете? — И, чтобы приглушить в себе вскипевшее раздражение, он приложил к лицу чистое полотенце, от которого пахло утюгом.
Альтман, все так же поблескивая глазами, чему-то радуясь, как бы желая, чтобы Николай Кораблев уехал «навовсе», громко сказал:
Народ утверждает.
Народ? А сплетни кто, по-вашему, несет? Камни, что ль? Народ? Не трогайте его: он этого не говорит, — и Николай Кораблев страшно обрадовался, когда в дверях увидел Евстигнея Коронова и Ивана Ивановича Казаринова.
Иван Иванович был одет по-праздничному: в сером наглаженном костюме, в фетровой шляпе, при галстуке «черная бабочка», в руке грубо сделанная, но дорогая палка из самшита. Евстигней Коронов тоже был весь «прибран»: на нем синяя спецовка, волосы на голове расчесаны — от макушки во все стороны, но они все равно непослушно кудрявились, как на выкупанном ягненке.