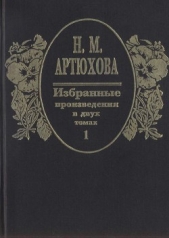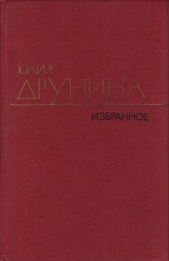Избранные произведения в двух томах. Том 1

Избранные произведения в двух томах. Том 1 читать книгу онлайн
Утверждение высокого нравственного начала в людях, поиск своего места в жизни, творческая увлеченность человека любимым делом — основные мотивы произведений А. Рекемчука, посвященных нашим современникам.
В том входят рассказы разных лет и две повести.
Герои автобиографической повести «Товарищ Ганс» (1965) живут и действуют в тридцатые — сороковые годы. Прототипы их, в частности — австрийского антифашиста Ганса Мюллера, взяты из жизни.
Повесть «Мальчики» (1971) рассказывает о воспитанниках Московского хорового училища в послевоенные годы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
За дверью молчали. Нет, не молчали, а было слышно через дверь, как кто-то порывисто дышит, будто хочет ответить и не может…
Мама Галя, не снимая цепочки, отперла, приоткрыла дверь.
Там стояла Софья Никитична Якимова. В наспех надетом, расстегнутом, вероятно первом попавшемся под руку, платье. Бледная, ни кровинки в лице. Глаза какие-то остекленелые, ничего не видящие перед собой.
— Софья Никитична?.. — Ма откинула цепочку.
Софья Никитична машинально переступила порог и опять остановилась, не произнося ни слова, вперясь глазами в пустоту.
— Что случилось?..
Якимова молча, ступая тяжело и неверно, сгорбясь, будто за одну ночь состарилась, направилась к окну.
— С Танечкой что-нибудь? — испугалась Ма.
— Она… спит, — едва слышно ответила Якимова.
Мы подошли к окну следом за ней.
Там, за окном, едва развиднелось. Бесчисленные окна нашего дома были свинцово бельмасты, слепы. Двор пуст и чист.
Близ нашего подъезда стояла машина. Небольшой автобус, «пикап», крашенный темной краской, без окон.
Поначалу я даже не обратил особого внимания на эту машину, не поставил ее ни в какую связь с ночным звонком, с появлением Софьи Никитичны. Мало ли всяких машин приезжало в наш двор и уезжало?.. Я смотрел из окна на пустынный наш двор, недоумевая: что же такое произошло? В чем дело?
По узкому тротуару, норовя держаться поближе к стене, торопливо и как-то воровато семенила женская фигура. Цветастый крепдешин, сумочка, каблуки — цок, цок, цок… Она шла, застенчиво опустив голову. Но я, приглядевшись, узнал: это была хохлуша с фабрики-кухни, четвертая жена Яна Бжевского, та самая, которая заставила его сбрить усики. Откуда же она так поздно? Вернее, так рано, под утро?.. Нехорошо так долго гулять, щеголять в крепдешинах, когда муж в отъезде. То-то она озирается, то-то жмется к стене… Может быть, из-за этого, из-за нее, из-за этой хохлуши так расстроилась Софья Никитична?
Но едва я успел поделиться с самим собой этой догадкой, как чернобровая гулена, что-то заметив, вдруг остановилась, а потом опрометью метнулась в ближайший подъезд — не в свой…
А внизу, под нашими окнами, хлопнула дверь парадного.
И я увидел. По ступенькам подъезда сходил Алексей Петрович Якимов. В одной руке его был узелок, а на сгибе другой — плащ.
А на шаг впереди него и на шаг позади — двое в хромовых сапогах, гимнастерках с портупеями и фуражках васильковой масти.
Старая дворничиха Степанида, в замызганном переднике и мохнатом платке, вышла следом за ними, неловко затопталась на крыльце.
Фыркнув, ровно заурчал мотор автомашины.
Один из конвоиров распахнул глухую дверцу в задней стенке кузова.
— Алеша!..
Вероятно, Софье Никитичне показалось, что она крикнула, что она выкрикнула это имя, а на самом деле даже мы, стоявшие рядом с ней, едва расслышали, как она позвала:
— Алеша!..
Но Алексей Петрович, все же услышал этот зов.
Уже у распахнутой дверцы он обернулся и, улыбнувшись растерянно, помахал рукой. Однако смотрел он при этом на окна своей квартиры, а не сюда, где стояли мы, где была Софья Никитична…
Пропустив арестованного в железную каморку, один из конвоиров полез за ним следом, а другой запер снаружи дверцу на ключ и сел в кабину рядом с шофером.
Машина пересекла двор и скрылась в подворотне, оставив после себя клок синего дыма.
Глава восьмая
— Костин.
— Я.
— Садись… Лебедченко.
— Я.
— Садись… Матюхин.
— Я.
— Садись… Нестерук.
— Я.
— Садись… м-м… Перельштейн.
— Я.
Она была сухопарая, с плечами угловатыми, костлявыми, спереди у нее был приколот наробразовский значок, сзади же — этого сейчас не было видно, но как-то угадывалось — остро торчали лопатки. Ей, вероятно, лет тридцать, но выглядела она куда древнее из-за старушечьей прически с куцым узелком на макушке. Из-за нарочито строгого темно-синего, чернильной синевы кашемирового платья с кружевным воротничком. Еще на ней, конечно, были очки, а одна дужка этих очков, конечно, сломана и толсто обмотана черной ниткой, а хвост этой нитки неряшливо свисал на скулу. Безусловно, старая дева.
— Садись… Рогачева.
— Я.
— Садись… Рымарев.
— Я. (Здрасьте, наше вам с кисточкой, очень приятно…)
— Садись.
Серые ресницы за стеклами очков опускались к странице классного журнала. Она внятно и твердо произносила очередную фамилию, как бы намертво запечатлевая ее в памяти. В ответ громыхала крышка парты. Ресницы приподнимались — и наступала секундная пауза: она, по-видимому, старалась с одного раза запомнить в лицо каждого, и, как выяснилось тотчас, это ей блестяще удавалось.
Сегодня она впервые пришла на урок. Наша новая учителка. Новый классный руководитель.
И поэтому в классе стояла какая-то особая, настороженная, скованная тишина, наэлектризованная любопытством.
— Садись… Терещенко Эн.
— Я.
— Садись… Терещенко Пэ.
— Я.
— Садись… Якимова.
— Я.
Ресницы за очками, сморгнув, вновь опустились. И вновь приподнялись. На сей раз пауза была куда более продолжительна. Томительна. Сосредоточенна…
Может, потому, что уже кончился список в классном журнале? Ведь известно, что «я» — последняя буква алфавита. И Таня Якимова была у нас последней в журнальном списке. Первая с конца, согласно школьной премудрости.
Но пауза длилась. Длилась, становясь зловещей.
Глаза за очками завораживающе остекленели.
— Так это твоя мать была до меня классным руководителем? — Новая учителка с нескрываемым интересом разглядывала девочку, поднявшуюся за партой.
Я сидел позади Татьяны. И мне не видно было ее лица. Я лишь видел тонкие косицы, сиротливо и жалобно — одна от другой врозь, отчужденно — поникшие вдоль ее спины.
Я только услыхал едва слышное:
— Да.
— А… где твой отец?
Еще я видел Танины руки, послушно и покорно заложенные за спину. Они были сцеплены, и пальцы — я это видел — с каждой секундой все больше белели в суставах.
Оцепенелая тишина стыла в классе. Та самая тишина, при которой, согласно все той же школьной премудрости, слышно, как муха пролетит. Но мухи не летали. Лишь несколько полудохлых осенних мух неприкаянно ползали меж оконными рамами…
На «Камчатке» оглушительно выстрелила крышка парты. Это вскочил Телицын.
— Ее отец арестован как враг народа! — торжествующе заявил он.
Серые брови новой учителки недовольно и строго нахмурились.
— Сядь… — приказала она и, не заглядывая в список, уточнила: — Телицын, сядь.
А сама поднялась из-за стола и неторопливо приблизилась к парте, за которой, уронив голову, стояла Таня.
Она приблизилась. И неожиданно, подняв легкую руку, погладила Таню по голове.
— Я хотела, чтобы об этом сказала сама Якимова. — Она попыталась из-под низу, вкрадчиво заглянуть в глаза девочке. — Мы ведь обойдемся без подсказки, правда?..
Таня молчала.
— Садись.
Новая учителка двинулась между рядами парт. Шаги ее черных шнурованных ботинок на резиновой подошве были неслышны, бесплотны, и только половицы недавно выкрашенного пола щенячьи повизгивали.
— Раскройте тетради… Пишите: «Контрольная работа… двадцать четвертое октября… тысяча девятьсот тридцать седьмого года…»
Я выскочил из класса, едва прозвенел звонок.
Тогда уже наступил век электричества, но электрических звонков в школе — во всяком случае, в нашей школе — еще не было, а был медный колокол, которым давала звонки школьная сторожиха. В положенное время, по часам, она брала этот колокол и трезвонила им на всю школу: с урока, либо на урок, либо вообще конец урокам.
Я так стремительно выскочил из класса и так прытко спустился по лестнице, что, когда уже был внизу, у раздевалки, сторожиха еще не отзвонила свое и в руке у нее все еще трясся, мотал языком старый гимназический колокол.