Сито жизни
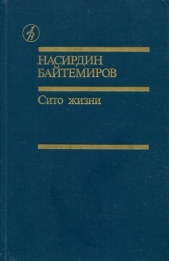
Сито жизни читать книгу онлайн
В книгу киргизского писателя вошли два романа: «Сито жизни» и «Девичий родник». Главный герой романа «Сито жизни» Серкебай много лет руководит колхозом, его уважают в аиле и в районе, но вот к нему приходит прошлое… О сложной судьбе героя рассказывает Н. Байтемиров. Второй роман, «Девичий родник», повествует о любви девушки Керез и джигита Мамырбая. Здесь мы опять встречаемся с персонажами романа «Сито жизни».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Быть может, я честнее тебя, Аруке…
— Вот видишь — «быть может»… Ты не веришь в себя, говоришь неуверенно. Это и значит — не честен… Почему я не говорю о себе — «может быть»? Смотрю на тебя и не верю, что вы с женой разговариваете по душам.
— Почему не разговариваем?..
— Не горячись. Я спрошу у твоей жены, я не верю, чтобы ты мог говорить с ней от всего сердца. Я не знаю тебя теперешнего, но если ты прежний Серкебай… ты ведь бесчувственный человек. На работе ты, вероятно, хорош, но уж дома… Посмотри-ка сейчас на себя. Твоя дочь пригласила меня в твой дом, а ты смотришь со страхом. Или думаешь, я приехала, чтобы снова выйти за тебя замуж? Или желая тебе отомстить? Оказывается, ты уже сам себе отомстил, сам наказал себя, обрек на мучения — даже не из-за меня, а из-за жены, с которой живешь, с которой нажил детей. Это твоя болезнь. Если ушибешь тело, боль длится один день, а если ранишь душу, боль останется на тысячу дней.
— Хотя ты и женщина, характером напоминаешь мужчину, Аруке. Не делай этого, зачем тебе спрашивать Бурмакан, разговариваем мы или нет… К чему тебе семейные нелады других?
— Скажи, Серкебай, должно быть, не очень часто в твоем доме бывают гости? Разве может человек, не уважающий себя, уважать других?
— Нет, не говори так, Аруке. Не хвастаюсь, что сверну горы, однако и над нашим очагом поднимается дым. Тебе тоже окажем уважение. Неужели же думаешь, я не смогу принять тебя достойно?
— Куда ушла твоя жена? Испарилась, исчезла… может, сбежала? Уж не рассердилась ли на меня?
— За что ей сердиться?.. Верно, хлопочет, желая получше угостить тебя, Аруке.
— Хмурая, оказывается, у тебя жена. Скажи, пусть не беспокоится, я уеду. Мы слышали о Калыче, — она была женщиной, что сияла как солнце, проглянувшее после дождя. Видно, ты постарался нахмурить эти брови, бедняга. Конечно, твоя заслуга, а то чья же… Скажи, как ты сделался председателем? Кто тебя научил руководить людьми?
— Научил сам народ. Если народ пожелает, сотворит и председателя, и что хочешь другое. Серкебай — это одна песчинка, а народ — гора. Если народ захочет — превратит в гору своего избранника. Я много не говорил, много слушал. Из услышанного отбирал самое главное, нужное, об этом говорил народу. Если я не хотел думать — заставлял думать народ, если я не хотел работать — народ заставлял меня… Народ научил дисциплине, научил жизни, научил честности. Народ научил оценивать прошлое, научил смотреть вперед. Не я, народ — молодец. Я узнал запах земли, я узнал вкус хлеба, я узнал цену минувшим дням — и все это дал мне народ. Да, если счастье тебе улыбается, что бы ты ни сказал, все звучит хорошо. С другой стороны, значит, и кое-каким умом наделил, видно, бог… Недалекий человек не способен долго править, не удержит в руках все нити… Поскольку я работал честно, не было людей, ставших мне поперек. Лишь то, давнее, неоткрытое, заставляет меня вспоминать о прежнем Серкебае, заставляет думать, что остался прежним, таким же, каким был…
— Понимаю, хочешь сказать, что родился новый Серкебай? Закалился в труде, развил данный природой ум, исправился, стал различать хорошее и плохое, но ведь сущность, характер — они остались без изменения? Ты и сейчас разговариваешь со мной как виновный… Почему? Потому, что ты не очистился от греха. Избавишься ли когда-нибудь, снимешь с себя вину?
— Нет. Это мне доказало Прошлое. До встречи с Прошлым я собирался все рассказать Бурмакан, я хотел получить от нее прощение, хотел облегчить свой груз, я стремился… Но после встречи с Прошлым от казался от этой мысли. Однажды совершенный проступок нельзя искупить честной жизнью. Бурмакан способна простить меня. Но разве я буду оправдан этим? Могу ли считать себя оправданным, стоит ей сказать «прощаю»? Нет. Поэтому все затаил в душе, упрятал слова признания подальше, поглубже… Я не сказал ей… И бог знает, скажу ли когда…
— Значит, по-твоему, всякую вину нужно скрывать до самой смерти? Однако все же скажу тебе: придет время — признаешься… Говорят, дурное дело обнаружится и через сорок лет. Говорят еще, что вина не может сгнить. Остается все той же. Все равно когда-нибудь станет известно людям содеянное тобой, но разве это успокоит твою душу? Серкебай, Серкебай, мне кажется, ты остался прежним, совсем ты не изменился, разве только морщины на лице появились да борода и усы побелели. Тебя подняло время. Всех поднимет наше время — всех, кто захочет подняться. Ты, должно быть, сумел, оказался достойным… В этом — твое достоинство, в этом — твоя человечность. Большой смысл заключается в том, чтобы суметь подняться. И я это оценила в тебе!
Аруке привычно приподняла брови, и этот памятный взлет бровей вернул Серкебая в молодую пору, вернул на полвека назад… В молодые годы Аруке, когда говорила с ним, точно так же иногда вскидывала брови… Ах, что была за пора — прозрачнее капли росы. Серкебай, вспомнив давнишнее, наполнился сладкой истомой… Он увидел себя в молодые годы. В плохое время, но молодым… На глаза его навернулись слезы. На сердце сделалось неспокойно, нехорошо, — казалось, его распирает, оно стало больше… еще больше… и наконец не выдержит — лопнет… Они с Аруке поглядели друг другу в глаза. Глаза Серкебая лучились теплом, из глаз Аруке потянуло холодом. Оба оценивали, вспоминали, сравнивали… Оба смутно жалели о чем-то, в душу вошло беспокойство…
В эту минуту вернулась наконец Бурмакан. В руках несла самовар. Запахло дымом еловых веток, запахло огнем, запахло самым настоящим, горячим, красивым, новым, весенним огнем. От запаха огня, аромата хвои будто все оживилось, очистилось в доме… Огонь оживил и похолодевшие, померкшие глаза Аруке.
А Бурмакан, она преобразилась — теперь выглядела приветливой, великодушной хозяйкой.
Следом вошла Рабия. Повинуясь слову матери, расстелила скатерть.
Бурмакан даже не посмотрела на Аруке и Серкебая, казалось, забыла про них. Поставила самовар на место, поставила мед и варенье, принесла боорсаки. Аруке приподняла подбородок, будто желая уловить запах хвои от самовара. Незаметно бросила взгляд на Бурмакан, заметила, что та уже нарядилась в новое платье. Белое шелковое платье свободного покроя — да, очень ей шло… На голове — небольшой шерстяной платок, наподобие косынки, — лицо Бурмакан теперь казалось свежее, она сама — моложе своих лет… Бурмакан присела к столу с независимым, уверенным видом: мол, если желаете, то критикуйте, — не страшно, цену себе знаем… Голос ее звучал теперь тверже, решительнее. Серкебай не понимал, что с ней произошло, но душой чувствовал: Бурмакан в чем-то переменилась. Аруке, увидав Бурмакан, незаметно оглядела свою одежду. Платье жены Серкебая было новым, было отлично сшито — лучше, чем у нее самой. В душе Аруке родилась чисто женская неприязнь. Желая заглушить неприятное чувство, она, откашлявшись, заговорила:
— Рабия лучше других успевала в школе. Я советовала ей поступить в университет, она же решила сначала пойти поработать на фабрику. Хорошо или плохо? Оказывается, не ошиблась Рабия, и это хорошо… Я стала встречать ее имя на страницах газеты. Радуюсь ее успеху, радуется моя душа. Хотя не имею на Рабию прав как вскормившая молоком, но имею права как учившая и воспитавшая… Где бы ни находились мои ученики, не забывают меня, пишут, делятся сокровенным, которое не выскажут никому другому, приглашают, зовут разделить и радость и горе. Не каждый удостаивается подобного. Вижу — ты счастливая, Бурмакан-байбиче, твоя Рабия выросла умной, достойной. Часто приходится слышать: основа семьи — это младший; думаю, это правда.
Аруке говорила спокойно, доброжелательно. Чувствовалось, что она сожалеет о своих недавних жестоких словах, о несдержанности, не подобающей возрасту. Она посмотрела на белую скатерть, разостланную Рабией, в задумчивости коснулась ее рукой… А на скатерти в изобилии были расставлены разные угощения, все свежее, красивое, все ко времени, к месту. Бурмакан как бы объясняла этим гостье, что за жена досталась Серкебаю. «Я покажу тебе, кто такая Бурмакан, посмотри, приглядись, оцени… Я поступаю, как сказано мудрыми: «Если в тебя бросят камень, то в ответ брось пищу». Ты — учительница, ты овладела знаниями. Я же просто женщина из аила. Однако знаний, умений и понимания, полученных мною с молоком матери, ни одна душа не сможет меня лишить, не сможет унизить меня. Серкебай по сей день не знает всего во мне, всей моей силы и знаний. Я подобна кунице, что, не показываясь постороннему взору, скользит по песку. Пусть Аруке увидит, как вычищу в песке свой драгоценный мех… Ешь, дорогая гостья… Ну-ка, отведай этого белого меда, попробуй это варенье; сварила, собрав клубнику с собственного огорода. Все на этом столе приготовлено моими руками. Приглядись, Аруке, приглядись хорошенько… Так, чтобы не забыть. Пойми, что я великодушна. Если не поймешь этого, недостойна звания женщины. Не все, что говорят вслух, можно считать словом; не все, что подают на стол, можно считать пищей. Как среди слов бывает лучшее, так и в пище бывает лучшее. Ты учила мою дочь… Не нашлось бы тебя, учил бы другой. Я ошибусь, если скажу, что моя дочь стала человеком лишь потому, что ее учила Аруке. Учиться — это, конечно, важно, но быть человеком — это главное, основное. Да, ты учила ее, но ты ли сделала ее человеком?» — так думала Бурмакан. Аруке не знала, не слышала внутренним слухом ее мыслей, она и вправду, как желала того Бурмакан, присматривалась, оценивала и мед, и боорсаки, и варенье, и все остальное, находящееся на скатерти. Не довольствуясь одним лишь осмотром, отведала всего понемногу. Подобно лисице, что пьет из ручья, пробовала все не спеша, сдержанно, понемногу. Однако Бурмакан, она и здесь перещеголяла гостью. Прежде чем поднести к губам пиалу с чаем — а чаю налито было меньше, чем полпиалы, — она совершала особенный ритуал: небрежно держа в правой руке разукрашенную пиалу, водила ею по кругу, удивленно поглядывая на едва заметный парок, что, извиваясь, поднимался над чаем… Временами она подносила пиалу близко к губам, и тогда казалось, что она глотает не чай, а вот этот самый чайный парок. И хотя можно было подумать, что она занята лишь чаем, на самом деле мысли ее ушли далеко. «Понимаю, ты приехала дать Бурмакан урок культурного поведения. Ты ведь учительница, ты учила дочь, теперь очередь матери. Однако, если понадобится, Бурмакан покажет себя, сама научит гостью кое-чему… Хоть я никогда не была богата, да жила в доме бая, видела, как некоторые чванливые пренебрежительно пили чай. Стоит мне воспроизвести жесты и мимику хотя бы одного из них, и ты останешься побежденной, униженной, дорогая моя гостья! Погляди-ка на нее! Как жеманничает, глотая чай!.. Прямо-таки байбиче, старшая жена Серкебая… И будто заявилась в дом младшей жены, токол. Ну, посиди, пожеманничай, покрасуйся! Только съеденное не пойдет тебе впрок… В этот дом — боже упаси от такого! — никто еще не вступал с плохими мыслями», — так думала, так наполнялась желчью встревоженная Бурмакан. Она повторяла все движения Аруке. Однако если та брала боорсак покрупнее, Бурмакан специально выбирала помельче, но красивее; если Аруке поглубже окунала боорсак в мед, то Бурмакан нарочно лишь слегка обмакивала и незаметно отправляла в рот, ела неслышно. Кокетливо шевелила губами, сразу проглатывала боорсак, размоченный чаем. Серкебай заметил и, удивленно расширив глаза, не подозревая здесь тонкой игры, спросил простодушно:


























