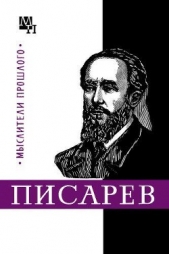Литератор Писарев

Литератор Писарев читать книгу онлайн
Книга про замечательного писателя середины XIX века, властителя дум тогдашней интеллигентной молодежи. История краткой и трагической жизни: несчастливая любовь, душевная болезнь, одиночное заключение. История блестящего ума: как его гасили в Петропавловской крепости. Вместе с тем это роман про русскую литературу. Что делали с нею цензура и политическая полиция. Это как бы глава из несуществующего учебника. Среди действующих лиц — Некрасов, Тургенев, Гончаров, Салтыков, Достоевский. Интересно, что тридцать пять лет тому назад набор этой книги (первого тома) был рассыпан по распоряжению органов госбезопасности…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
На сей раз Суворов известием не пренебрег. Он отнесся в Третье отделение с просьбой нарядить экстренное негласное следствие, и там, естественно, медлить не стали… И вышел конфуз. Саранчов действительно существовал, служил бухгалтером в канцелярии военного министерства и даже состоял на замечании ввиду крайнего либерализма в суждениях о политических событиях, — но с Писаревым все-таки не встречался по той простой причине, что не был с ним знаком. По крайней мере, так заявили в Третьем отделении, и приходилось предположить, что осведомитель Сорокина что-то напутал. А Пинкорнелли, почуяв наблюдение, затаился. Коменданту оставалось одно: опять сосредоточить внимание на переписке заключенных, там вернее всего мог отыскаться нужный след.
С некоторых пор Алексей Федорович прямо-таки пристрастился к занятию, которое прежде недолюбливал, и даже скучал, если прочие обязанности подолгу не оставляли ему времени посидеть с лупой над письмами. Его окрылила удача. Еще в позапрошлом году он выудил из послания Чернышевского к жене замечательные слова: «Наша с тобой жизнь принадлежит истории; пройдут сотни лет, а наши имена все еще будут милы людям; и будут вспоминать о нас с благодарностью, когда уже забудут почти всех, кто жил в одно время с нами». Теперь-то он помнил эти слова наизусть, а тогда был неприятно поражен безумным нахальством — или нахальным безумием? — но все-таки не сплоховал: сразу переслал письмо прямехонько в Третье отделение. И как же там обрадовались, как ухватились! Но только совсем недавно, девятнадцатого мая, Алексею Федоровичу объяснилась вся важность сделанного им открытия: этот самый отрывок из письма вошел в приговор, объявленный Чернышевскому, как одна из главнейших улик! Своими ушами слышал этот приговор генерал-лейтенант Сорокин: нарочно выкроил с утра часок, съездил на Мытнинскую площадь полюбоваться из окна кареты, как стоит на коленях знаменитый умник. И умник стоял на коленях, пока ломали над ним заранее подпиленную саблю, и послушно сунул руки в железные кольца у позорного столба, и дождь заливал ему очки, и молча глазела на эшафот толпа читателей (а литераторы, как слышно, не явились) — отлично было! Только два обстоятельства слегка омрачили торжество Алексею Федоровичу: во-первых, не позволил-таки Суворов накануне, по отбитии вечерней зари, обрить Чернышевскому, как положено, голову, а забавно бы, наверное, вышло; во-вторых же, две нигилистки осмелились бросить преступнику по букету цветов, а один офицер (офицер!) крикнул, сняв фуражку: «Прощай, Чернышевский!» — причем арестовать удалось лишь одну из нигилисток, а вторая, как и наглец офицер, ускользнула (вот она, петербургская полиция!). Но все равно; не зря Алексей Федорович корпел над бумагами Чернышевского, пригодилась государству старенькая походная лупа, авось и еще пригодится не раз.
(Между прочим, в бумагах Чернышевского немало находилось поучительного. Он работал с такой быстротой, что даже Писареву не снилось, — по двенадцать печатных листов в месяц! Если бы Алексею Федоровичу пришлось все это читать, он не справился бы, — хоть бросай службу. Но бог миловал, надобности не оказалось. Едва окончив «Что делать?», взялся было Чернышевский за новый роман и три, что ли, главы переслал в «Современник», да там уже знали, чем это пахнет, и не напечатали, конечно. А прочие рукописи сам преступник никуда не представлял, и никто их у него не просил, они пылились бесполезной грудой в его камере и по исполнении приговора свезены в мешках в архив Третьего отделения. Туда и дорога, разумеется. А на первой странице того романа, «Алферьев», что начат в день окончания «Что делать?», были стихи. Четыре строчки Алексей Федорович запомнил. Как там —
Он думал, что это Чернышевский сам о себе сочинил, но Александр Львович Потапов сказал: нет, это Некрасова стихи, из давней поэмы «Несчастные». Кому же и знать, как не Потапову. Алексей Федорович о поэме с таким названием и не слыхивал. Но там, на Мытнинской площади, глядя на мокрые доски эшафота, на черный столб с цепями, на безгласного и неподвижного человека в залитых дождем очках, — там эти стихи Сорокин вспомнил явственно, словно бы кто-то за спиной у него прочел вслух:
А Некрасов попрощаться с Чернышевским в крепость не пришел, зря выхлопотал ему светлейший разрешение. Так-то.)
…И точно: пригодилась лупа вскоре опять, и не подвела! Тянет, неудержимо позывает человека в тюрьме на неосторожные признания. Чуть не весь свой жизненный план изложил Писарев в очередном послании к мамаше, но мамаша этого послания вовеки не получит, а получил его через генерал-лейтенанта Сорокина генерал-майор Потапов и представил князю Долгорукову при соответствующем рапорте:
«Представляемое письмо передано генерал-лейтенантом Сорокиным. Письмо это обращает на себя внимание, потому что Писарев сообщает своей матери, что он самый деятельный сотрудник журнала „Русское слово“, известного своим дурным и вредным направлением. При этом генерал-лейтенант Сорокин сообщил, что Писарев пишет очень много. Статьи его передаются прямо Санкт-Петербургским генерал-губернатором Благосветлову, который весьма часто посещает Писарева. Писарев содержится в Екатерининской куртине, в отдельном каземате, и потому как переписка, так и свидания его не подлежат ведению III Отделения. Писарев по своему преступлению подлежит лишению всех прав состояния и ссылке в каторжные работы, а потому, во избежание, чтобы статьи Писарева не произвели бы тех последствий, какие произошли от романа Чернышевского „Что делать?“, я полагал бы снестись с министром юстиции, не признает ли он нужным переместить Писарева в Алексеевский равелин, и тогда как выпуск его статей, так и неуместные свидания могут быть прекращены».
Но и опять — кто бы поверил этому? — ожидаемого результата не получилось. Шеф жандармов обратился не к министру юстиции, а все к тому же генерал-губернатору, жалобой на которого был, по существу, сорокинский доклад. И после разговора Долгорукова с Суворовым на докладе появилась резолюция: «Оставить без последствий, приобщить к делу». Потапов не упорствовал, он уже готовился сдавать дела заступавшему на прежнее место Тимашеву, а сам собирался в Вильну, помогать Муравьеву замирять все еще неспокойный Западный край. Опять остался в дураках старый комендант. В довершение неприятностей, мать Писарева приехала в Петербург, сразу получила, само собой, разрешение видеться с сыном регулярно, и переписка между ними прекратилась.
Свидания давали в две недели раз. Однако Варвара Дмитриевна приходила чаще и почти всегда проводила с сыном больше положенных двух часов. Офицеры и чиновники, служившие в крепости, знали, конечно, об особенном нерасположении коменданта к Писареву, но поскольку при очевидном неравенстве сил игра вот уже два года шла вничью, почти все догадывались, что в судьбе этого заключенного принимает участие некто посильнее генерала Сорокина, и не боялись допустить ту или иную мелкую поблажку наперекор злому старику.
Комната для свиданий находилась в Екатерининской куртине, в ее восточном торце; как войдете в полутемный тамбур, где двое часовых, то справа железная дверь в тюремный коридор, а слева — обычная, деревянная, в эту комнату для свиданий. Когда она бывала занята, Писарева выводили в кордегардию или в канцелярию, но там спокойно поговорить не удавалось. А в комнате для свиданий было тихо и светло. Там стоял широкий стол с грубо вырезанным на красной столешнице инвентарным номером, три табурета — и больше ничего. Мать и сын усаживались друг напротив друга, по разным сторонам стола, караульный офицер — сбоку, солдат с ружьем оставался у дверей. По инструкции, офицер обязан был вслушиваться в разговор и вообще не спускать глаз, но обычно он прохаживался по комнате, поглядывая в зарешеченные окошки, мурлыкал себе под нос песенки из «Прекрасной Елены» — словом, всячески давал понять, что является человеком благородным, что он тут только так, проформы ради и по долгу службы, что его тут, собственно говоря, как бы и нет.