«Свет ты наш, Верховина»
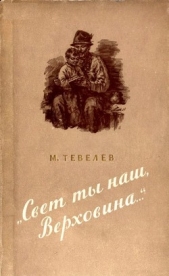
«Свет ты наш, Верховина» читать книгу онлайн
«Свет ты наш, Верховина…» — роман русского писателя и сценариста Матвея Григорьевича Тевелева (1908–1962). По роману в 1957 году был поставлен один из известных спектаклей Закарпатского театра.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Скрипка сидел и слушал, зажав руки между коленями; Анна попрежнему стояла на пороге, будто вросла в него.
— Может, твоя правда, — произнес после долгого молчания Скрипка, — но что-то я не видел, чтобы наука была для народа, я другое видел: як наука — так все с народа!.. Вот поди сюда, — поманил он меня пальцем, — подойди, не бойся.
Я подошел к кровати. Скрипка тоже встал, и тут только я заметил, что на кровати кто-то лежит под домотканной холстиной. Скрипка отогнул край холстины, и на меня взглянули лихорадочно горящие глаза. Трудно было сразу определить, кому они принадлежат: старому или молодому существу. Только всмотревшись в изможденное, желтое, почти прозрачное лицо, я догадался, что передо мною сын Скрипки.
— Сын, — сказал Скрипка и вздохнул. — Не жилец… А я его и в Сваляву в прошлом году до лекаря возил. Дуже ученый лекарь! Посмотрел он на его и кажет: «Треба в больницу положить вашего хлопца — и поправится». — «А долго, пане лекарь, опрашиваю, лежать надо в той больнице?» — «Полгода», говорит… Ну, скажи, человече, где Федору Скрипке те гроши взять для больницы? Разве я бы пожалел, если бы мог их заработать? Вот и привез обратно домой… До весны еще ходил, а с весны слег и не встает. Грудь болит. Видишь, каким стал, а ему ж только девятнадцатый год пошел!
Хлопец глотнул полураскрытым, запекшимся ртом воздух и отвернулся к стенке.
С чувством горького стыда от сознания собственного бессилия смотрел я на умирающего. Но чем я мог помочь ему? Я слишком хорошо знал таких, как он, обреченных на смерть. Сколько их лежало по верховинским хатам! «Зачем я пришел сюда и надоедаю своими просьбами людям, у которых такое большое, непоправимое горе?» — пронеслось у меня в голове.
Я взглянул на Анну. Она стояла неподвижно, с тем же угрюмым, непроницаемым, будто высеченным из камня лицом, по которому проложили след скупые слезинки.
— Ну, человече, — произнес Скрипка, бережно поправляя холстину и снова присаживаясь на край кровати. — Это я к слову про хлопца моего… А бороздочку на своем поле я тебе дам. Ты только скажи, что на ней делать. И с той же бороздочкой не хватало и без нее не хватит. Как, стара? — повернулся он к жене.
Старуха вытерла концом головного платка лицо.
— Что ж, — сказала она, — и мы люди.
41
На двадцати клаптиках земли в разных концах Верховины, то вытянувшись бороздкой вдоль межи, то уголком в поле, то пятачком среди камней на пустошах, зеленели высеянные мною травы, и робко, словно пробуя силы, скудно, но все же колосились, на удивление многим, рожь и пшеница.
Семен Рущак и Федор Скрипка из Студеницы, Стефан Попович из Потоков, Михайло Стрижак и Петро Цифра на Воловщине, лютянский кузнец Святыня и другие выхаживали эти пробные посевы, сберегали их от смывов и сорняков и следили за всеми сроками. Сначала они делали только то, о чем я их просил, но затем в них самих проснулся беспокойный дух испытателей.
— Что ты со мной сделал, человече? — шутливо говорил Скрипка, когда я навещал его во время моих инспекционных поездок в лесничество. — Я теперь в небо глядеть разучился. Идешь и все под ноги себе смотришь и думаешь: «Почему, бес его знает, эта травка так растет, а не этак?»
Однажды я даже получил от Скрипки письмо. Кто-то под диктовку старика писал на замусоленном листке крупным, разъезжающимся во все стороны почерком.
«Пишет до тебя с полонины Скрипка Федор и желает доброго здоровья. И я, слава матери божией, пока что здоровый и пасу скот, а за твоей бороздкой смотрит стара. Теперь мы с нею вдвоем остались. Младшего нашего уже нема — помер.
Стал я примечать тут на полонине, Иванку, что как помочится овца над тем проклятым щавелем, что глушит всякую другую траву, так щавель сгорает и только погодя опять начинает расти. А мне очень неохота, чтобы он рос. Тогда я сам собрал малую овечью нужду и полил проклятого, а как он сгорел, высеял по тому месту добру траву меум. И пишу я тебе сейчас, что трава дуже густо и хорошо взошла и сама заглушила щавель, как он вздумал опять пробиваться. Я тот клаптик отгородил, чтобы его скотина, сохрани матерь божья, не вытоптала. Приезжай, посмотришь, а я еще пробовать буду».
Я ждал выезда в лесничество с нетерпением. Я добирался к моим помощникам то на казенных лошадях, то на попутных повозках, а большей частью пешком. В моем рюкзаке рядом со взятыми пробами земли лежали тетради, заведенные на каждый посев, и в эти тетради я записывал все, что наблюдал сам и о чем рассказывали мне мои добровольные помощники. Я торопил и себя и время. В городе за нашим домом, под склоном, была сооружена теплица, где можно было продолжать работу и в зимние месяцы. Я стал постоянным заказчиком советской литературы в книжном складе Свиды и вел переписку с моим учителем профессором Ярославом Мареком: я спрашивал его советов, делился наблюдениями и мыслями.
Марек поместил несколько моих писем об опыте с меумом в двух номерах журнала, который издавался им теперь в Брно. Письма эти вызывали нападки на журнал и на меня, автора, со стороны маститых, или, как говорил о них Марек, «ископаемых», профессоров сельскохозяйственного института. Они даже опубликовали в пражской аграрной газете рецензию на мои письма, возмущаясь, как смел какой-то агроном усомниться в постоянстве и неизменяемости наследственных качеств растений, как смел утверждать, ссылаясь на свои наблюдения, что, изменяя условия жизни, можно изменить и организм растения.
«Нужно спросить у профессора Марека, — писали они, — чему служит его журнал: науке или политике?»
Рецензию дал мне прочитать Куртинец, когда я навестил его проездом из дальнего лесничества через Мукачево в Ужгород.
— Скажите, как зашевелились! — нахмурился я.
— А вы что, недовольны? — спросил, хитро сощурившись, Куртинец.
— Доволен, но я просто не ожидал, что это так их заденет.
— И зря не ожидали, — проговорил Куртинец. — Думаете, они за науку заступаются? Как бы не так! Вы замахнулись на «неизменяемое», вот у этих жрецов «чистой науки» и не выдержали нервы… А что такое политика? — И, задумавшись, добавил: — Их все приводит в ярость, пан Белинец. Я имею в виду не одних этих ученых мужей, они только часть той черной силы, которая вот-вот грозит обрушиться на народ страшной бедой. Народ должен сплотиться теперь, как никогда, чтобы создать свой антифашистский фронт…
Я слушал Куртинца с жадным вниманием. Встречались мы теперь часто, и после каждого разговора с ним думалось яснее, шире, славно и в самом деле где-то в душе «фитилек повыше выкрутили», как говорил когда-то Горуля.
Все свободное от службы время я проводил на своем участке. Участок был небольшой, но работы на нем хватало. Порою одному мне бывало трудно справиться. Тогда на помощь шла Ружана. Жить нам приходилось очень экономно. Нужны были средства и на содержание участка, и на книги, и на постройку теплицы. Чтобы как-то свести концы с концами, Ружана продолжала служить в книжном складе. Служба, хлопоты по дому отнимали у нее немало времени, и все же она урывала час-другой, чтобы помочь и мне.
Но за своими занятиями, сколько бы нового, а порой даже и радостного они мне ни приносили, я не переставал испытывать чувство гнетущей тревоги, той общей тревоги, которая сжимала сердца людей в нашей стране предчувствием неминуемой беды.
Я ловил себя на том, что всякий раз, взойдя на холм за нашим домом, откуда было видно далеко вокруг, я невольно обводил настороженным взглядом горизонт. Там, скрытые далью, лежали хортиевская Венгрия, боярская Румыния, бековская Польша, а на западе, у Судетских гор, — гитлеровская Германия.
Никогда раньше я не ощущал так отчетливо их близкого соседства, а теперь, залитые фашистской мутью, они как бы сгрудились вокруг маленькой Чехословакии, и всплески этой мути слышались уже у самых наших границ.
Одни с негодованием и презрением, другие со страхом, но все одинаково пристально следили за тем, что творилось у соседей, и особенно в Германии и Венгрии.


























