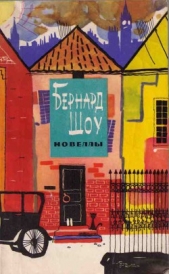Блокадные новеллы

Блокадные новеллы читать книгу онлайн
Новую книгу известного советского писателя Олега Шестинского составили рассказы о людях родной земли, прошедших нелегкие испытания. Нравственное становление подростков, переживших суровые дни блокады Ленинграда, характеры наших современников, чистые и правдивые образы русского человека встают перед читателем во всей жизненной достоверности.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Пассажиры уснули. Не спали лишь мы с ней: она следила за девочкой, разметавшейся во сне; а я, как говорится, перебил сон.
Мы мало-помалу разговорились. Она чувствовала во мне внимательного слушателя, с которым жизнь свела на несколько часов и разведет скоро… Словно истосковавшись по откровенной речи, все говорила и говорила о своей судьбе…
— Выросла я на Пинеге. У отца с матерью пять человек детей народилось. Я старшою была. Как война началась, отца по мобилизации взяли, на войну угонили, стала я первой рукой в доме, с матерью наравне.
В военную зиму на лесоразработки направили. Меня, как самую шуструю, десятником назначили. Работа нетрудная. Следить да записывать, кто сколько выполнил урока. Ну, и заработок невелик — шестьсот рублей. Пришла к начальнику и стала в лесорубы проситься—там и девятьсот можно выжать. А деньги ух как необходимы: дома малыши, одна мать с ними.
Ледяные дороги в ту пору строили: прорубали просеку эт лесоповала до реки, наваливали снег высоко, как железнодорожное полотно, колеи прокладывали в снежной насыпи, заливали водой. Мороз схватит — и гони по тем звенящим колеям сани с бревнами на нижний склад. Я снег лопатой наращивала. Спецодежды никакой. Обмотаешь ноги мешковиной, чтобы тепло уберечь, да так и вкалываешь весь день. Ядреные ноги тогда были.
Но больше работала на лесоповале. Вручную, с такими же молодыми девчонками пилила. Как-то случилось летом на опушке елку валить. Упало дерево, молодняк рядом покачнулся, и вдруг с тоскливым криком взметнулась из травы дикая утка — «чернеть». А в траве, захлестнутый насмерть веткой, прижался к широким листам подорожника птенец. Не смогла я в тот день работать: носится птица надо мной, стонет. То отлетит— будто кто-то вдалеке плачет, то возвратится к срубленному дереву — вопль слышен. «Иди ты, — сказал десятник, слушая утиные всхлипы, — незадача-то какая вышла…»
Не шла, бежала по просеке к лесной избе, а птица летела за мной. Страху натерпелась. Бабки после в деревне твердили, что в птичье тело овинница вселилась, потому по-человечески она себя и вела, потому и страдала так по мертвому птенцу.
Однажды к концу войны приехал возница на лесоучасток. «Богданова здесь?» — выкрикнул. А это я Богданова и есть. «Пластай в конторку, к телефону кличут!» Сердце похолодело: «Зачем к телефону-то? Не иначе — беда стряслась…» Телефон-то видывала, а самой говорить не приходилось, и оттого еще страшнее сделалось. С возницей отказалась ехать, прямиком через лес бросилась. Бегу, чувствую, как ноги слабеют, точно ватные. В конторку вбежала, телефон на стене висит, поблескивает серебряными чашечками. «С отцом что?»—спрашиваю. «Ничего не сказано… Тебя из района ищут, звонят как начальству какому… Жди, еще на аппарат потребуют…» Тут я совсем расстроилась. Если уж из района меня, соломинку, разглядели, то не пустяку быть. Снова звонок. «Ты Богданова?»— спрашивают. «Я», — губами шевелю. «Должна прибыть в райком комсомола послезавтра в десять». Я немножко пришла в себя: «А дело-то какое?»— «Дело на месте скажут. Не время все по проводу разглашать». Ну, я, конечно, замолкла, если так вопрос ставится. Сгрудились вокруг меня в конторке, спрашивают: «Чего? Чего?» А я в ответ: «Зовут, а о деле молчат, говорят: «Разглашать не положено»… «Ну, девка, и внимание тебе! Может, какую державную работу поручат…»
Ночь не спала. Наутро собираться стала. Дарья, повариха, как сейчас помню, советует: «Надень-ка мою жакетку плюшевую, на люди покажешься — приободриться надо… В розном платьишке и обращения того не будет…»
Поехала. Где пешком, где на лошади — всяко добиралась. Но поспела в пору. Вхожу в коридор, вижу: у дверей еще ребята стоят, а среди них — Андрюшка из нашей деревни. «Что за сборы?» — спрашиваю. Никто толком не знает. Наконец вызывают нас, всех вместе. За столом парень сидит, румяный, но строгий взглядом. Встал, уперся руками о стол и спросил: «Знаете, в какое время живем?» Молчим. Он помолчал тоже и говорит: «В победное! Наши доблестные войска обложили фашистского зверя, и скоро мы водрузим знамя Победы над рейхстагом!» Слушаем — к чему речь идет. «…Надо нам страну еще краше еде-1 лать и, значит, везде насаждать очаги культуры… Поэтому открываем мы культпросветучилище и отобрали вас, лучших комсомольцев района, чтобы первыми вы в него вошли…»
Тут все загалдели, никто такого оборота не ожидал. Стали ребята прямо в кабинете заявления о приеме писать. Андрюшка ко мне подскакивает: «Здорово!»— а глаза светятся. «А вы что не пишете?»— спрашивает меня секретарь. «Не могу», — отвечаю. «Как так не можете, когда вы комсомолка, а комсомольцы должны быть на передней линии борьбы?» Осмелела я, потому что вижу — дело жизни касается. «Я в леспромхозе девятьсот рублей выколочу, а здесь сама на обеспечении, а что с малышами делать, коли еще и мать болеет… У меня братьев и сестер пятеро…» — «Нездоровые разговорчики… Потребительские…» — говорит он, не меняя голоса, а сам хмурится и задумывается что-то. «Ну, ладно, — решает наконец, — по вашему вопросу завтра примем решение. Приходите с утра…»
Провела я ночь у знакомых — и снова в райком. Он меня встретил хорошо, усадил на стул, смотрю я на него— усталый, озабоченный, ну а румянец — куда денешь, от молодости румянец. «Давайте так поступим, — говорит, — вы в училище пойдете, а в виде некоторого возмещения на двух ваших старших ребят выпишем ежемесячные пайки, как на взрослых…»
Так и пошла по новой стезе, не думая, не гадая.
Как жила, вспоминать не буду — одно скажу: легкого дня не случалось. Научилась на гармошке и гитаре играть, порой душу отводила с теми инструментами. Обносилась — света бы мне не видеть: чинена-перечинена, латана-перелатана, но живой дух во мне был, не унывала.
После окончания направили меня в деревню, километров за пятнадцать от нашей, — там клуб находился. В нашу Андрюшка поехал.
Прибыла я на место назначения. Девчонка девчонкой еще. А клуб в бывшей церквушке: мусор, птичий помет, сквозь дыры ветер дует… Перво-наперво вымыла пол, дыры законопатила, веток свежих над входом воткнула, села на приступке, стала на гармошке играть, потом отложила — и на гитаре. Заинтересовались жители. Спрашивают: «Чья, мол, откуда?» Одна бабка говорит: «Поп-то наш осанистый был, в колокол ударит, чашку из рук выронишь. А наместо той жизни что удумывают: девка худущая гармошкою лешака тревожит…» Однажды возразили другие: «Пусть себе играет, может, и спляшем когда».
А Девятого мая, между прочим, все ко мне в клуб пришли. И так душевно попраздновали: о мертвых поплакали, о тех, кто не вернулся с войны, живым героям здравицу воздали.
Однажды прибегают ребятишки ко мне, кричат наперебой: «Тетя Лена, Кошка-Муркин приехал!..»— Какой Кошка-Муркин?» — «Да он, говорят, на наших мужиков непохожий». Пошла. Оказывается — из Дома народного творчества инструктор. А у него галстук бабочкой на беленькой рубашке, как усы кошачьи.
Между прочим, из-за того инструктора у меня, может, и жизнь не устроилась. Вадимом звали. Застрял он у нас. «Я, — говорит, — со временем не считаюсь, командировка кончится, из своего отпуска прихвачу… Надо работу в клубе наладить по-научному…» Стал он клубную работу по- научному ставить, да вскоре я поняла, что главное он за мной ухлестывает… Что кривить, и мне он нравился. «Тебе, Лена, может, большая сцена уготовлена, — вел он речь, — потому как много в тебе живости и грациозности». Вот так он меня и обволакивал…
Потом я его в город до самой железнодорожной станции провожала. Поцеловал он меня в лесу, перед станцией, в последний раз, обещал сразу письмо написать. А как на вокзал пришли, стали нас пассажиры разглядывать, — он серьезным сделался, брови сдвинул и громко, чтобы люди слышали, заявил: «Инструкцию почтой вышлем. До свидания». В вагон прошел, из окна глянул, а ни одного слова прощального уже не нашел в себе. Долго я от него письма ждала, а потом плюнула и, наверно, уже не такой дурой сделалась.
Года через полтора я его на совещании в городе встретила. Он не один шел, — с каким-то человеком. Увидел, поздоровался и к спутнику своему: «Вот один из лучших зав- клубов. По-научному работу ставит…» Если б он смолчал, может, и я смолчала. Да как заталдычил он про свою науку, я не стерпела: «Лучшая — худшая — не знаю, а уж вашу-то науку на порог не пустим, сыты от нее». — «То есть это как?»—удивился его спутник. «А вот так и этак», — и по лестнице сбежала. На совещании его спутник (какой-то представитель из области) выступил и такую фразу подпустил: «Некоторые низовые работники слабо методологически подкованы…» — произнес и глазами по залу шарит. Ну, да хватит об этом.