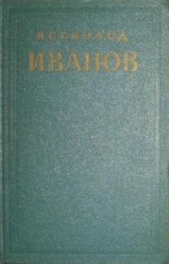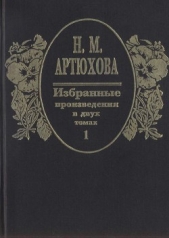Избранные произведения. Том 2
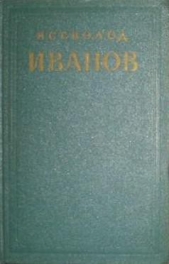
Избранные произведения. Том 2 читать книгу онлайн
В настоящее двухтомное издание я включил часть произведений разных лет, которые, как мне кажется, отображают мой путь в советской литературе.
В первый том входят повести «Партизаны» и «Бронепоезд 14–69», три цикла рассказов: о гражданской войне, о недавних днях и о далеком прошлом; книга «Встречи с Максимом Горьким» и пьеса «Ломоносов».
Второй том составляет роман «Пархоменко» о легендарном герое гражданской войны.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он указал на откормленного, гладкого и веселого вороного коня, которого подвели к машине.
— Вот таких тут целый табун.
— Откуда?
— Торговец буржуй из-за Волги переправил. — И он сказал торопливо: — Разрешите коней причислить безусловно к моему отряду, товарищ командарм? Против меня конный генерал Мамонтов стоит.
— А сколько коней?
— Еще не успел сосчитать, — нехотя ответил Ламычев и, повернувшись к подскакавшему Гайворону, сказал: — Веди стрелков обратно. Скажи: кони есть, теперь для них проблема — седла достать. Да веселей смотри, зятек!
Он немножко сердился на Гайворона. Гайворону было поручено самому доставить батарею к станции Воропоново, а он взял погрузил батарею на платформу и вернулся. «Учи такого, — думал Ламычев, — он, вместо того чтобы оружие беречь, о славе мечтает. Нету в нем широты, нету».
Стрелки уже знали, что с ними едет Ворошилов, и первые пять километров они шли с песнями, на вторых пяти вспоминали боевые случаи — и как они гнали врага с Тундутовских гор и как били мятежников в Бекетовке. Дальше переносить зной, и эту уже к полудню воскресшую пыль, и это непрерывное стрекотание кузнечиков стало чрезвычайно трудно. Шли молча, преодолевая нестерпимое желание — спать, спать! Тяжелые ботинки казались налитыми раскаленным металлом, глаза резало от сухих и усталых слез.
— Это, парень, больно хорошо, что Ворошилов с нами, — говорил тихо Ламычев, слегка наклонившись к Гайворону. — Ребята с ним дойдут-таки до гор. А вот как мне его теперь от гор удалить — это штука!
— Зачем?
— А вдруг, не дай бог, парень, пуля да заденет командующего! Какой же позор падет на нашу бригаду, не говоря уже обо всей армии. Я прошу тебя, Вася, как пойдем в атаку, ты его ординарцами оцепи, а сам иди со мной рядом, я как-нибудь буду вперед его вырываться!
Показались Тундутовские возвышенности, голые, с редкими шапками перекати-поля, хилого брюквенного цвета. Кадеты уже укрепились там с пулеметами, а передовые части их оттеснили наш заслон почти к самому селу, где находился штаб и лазарет. Стрелки стояли молча. Послышался из рядов чей-то усталый голос:
— Страна здесь малолесная, а житель маломудрый! Бить его надо, пока не погниет аж до корня.
Вечерело. Бойцы выпили по кружке воды…
— Вы на них не смотрите, что они пыльные, — сказал Ламычев, выезжая вперед, — у них душа еще не прокисла!
— И он закричал «ура» таким свежим и бодрым голосом, что даже раненые — и те подхватили этот пиршественный, великолепный и торжественный крик.
— При таком крике да не взять гор! — сказал Ворошилов, а Ламычев, закинув назад курчавую круглую голову с большими голубыми глазами, заливался:
— Вперед, товарищи, за красную родину! Вперед, за дело Ленина!
— А-а!.. — понеслось по степи, вырвалось из села, погнало белоказаков, приблизилось к подножию возвышенностей и поднялось в высокое сильно посиневшее небо и, словно возвратясь оттуда стократным усилившимся эхом, ударило дергающим треском пулеметов, стонами раненых, восклицанием дерущихся, столкновением штыков и стуком камней, покрытых кровью, выскальзывающих из-под ног у побежденных, бегущих, скользя по откосу.
Продолжая кричать «ура», Ламычев непрерывно показывал Гайворону на Ворошилова, который нет-нет да обгонял свою охрану и вырывался вперед.
Конь под командармом споткнулся: видно, подбили. Командарм быстро перескочил на другого коня, которого подвел к нему ординарец. Тогда Гайворон стегнул своего коня, чтобы теперь-то выскочить вперед. Но где там! Ворошилов опять впереди него! Стегая коня, Гайворон кричал, вспоминая любимые слова Пархоменко, своего командира и друга:
— Вперед и точка!
— И точка! — ответил ему Ворошилов, взмахивая шашкой и ставя точку в чьей-то белогвардейской жизни.
Гнутая сверкающая струна месяца перерезала и уничтожила последнее облако. Небо очистилось. Всадники огляделись, точно впервые увидав пространство под месяцем. При свете его было видно, как свозили захваченное оружие, коней, как считали пленных. И чей-то круглый, льстивый голос твердил: «Гражданин комиссар, запишите, что я с высшим образованием и могу быть полезным Советской республике».
— Как граблями вычистили, — сказал, тяжело и счастливо дыша, Ворошилов. — А ты, Ламычев, говорил, не взять сегодня. Что касается меня, так мне, брат, надо ехать обратно. Водицы нету испить?
— А у меня квас есть в баклажке… Я рассчитывал, до ночи будем рубиться, горло пересохнет, ну и… — начал было Ламычев, но в это время какая-то последняя, шальная пуля ударила его коню в грудь, и Беркут, сделав несколько раз «свечку», тяжело рухнул на землю.
Ламычев, потрясенный, всхлипывая, щупал неподвижное сердце своего Беркута, которого он «нещадно любил».
Ворошилов подскочил к Ламычеву. Весь дрожа, он закричал:
— Ты что же, Терентий, не бережешь себя! Ты знаешь, как у нас мало командиров, и позволяешь, чтобы под тобой коней убивали?
Подавая баклажку и убирая слезы, Ламычев сказал:
— Разрешите заметить, товарищ командарм, что под вами сегодня уже три лошади убито.
Глава девятая
Паек, который они привезли с собой, быстро исчез. То ли ели много, то ли дарили, но уже на шестой день оказалось, что надо хлопотать о пище. Тогда Пархоменко выдали квитанции на обед в столовой при общежитии «Метрополя». Как ни мало замечал он это, все же ощущалось, что кормили очень плохо. А большое его тело настоятельно требовало еды. Он входил в столовую, подавал квитанцию, съедал какую-то кашицу двух сортов, из которых один назывался супом, а второй «котлет-пюре», расписывался и каждый раз, ухмыляясь, говорил:
— Пищи-то меньше росчерку.
Большая комната общежития тоже была какая-то голодная, тусклая, неласковая. Железные койки так тесно заполняли ее, что проходить между ними приходилось боком, да и то брюки полировали железо коек, а так как брюки были только одни, то и проход между койками раздражал. Окна выходили под стеклянную крышу и постоянно были раскрыты, неподвижны, а из окон несло чем-то кислым и затхлым, и так как там под стеклянной крышей когда-то находился ресторан, то думалось, что буржуи бежали, забыв захватить свои кушанья, и они стоят теперь воняя, протухшие.
По одну сторону койки соседом был какой-то черный человек с длинными, круто закрученными почти до бровей усами, а с другой — постоянно встревоженный крестьянин откуда-то из-под Уфы. Длинноусый человек обладал чрезвычайно язвительным взглядом. Ночью он долго кашлял, и, когда Пархоменко, освещая дорогу зажигалкой, пробирался к себе, усталый человек приподнимался на локте и, стараясь сдержать кашель, спрашивал:
— Ну как, царицынец, кружит тебя пламень? — И, не дождавшись ответа, говорил: — А вот в Ашхабаде гораздо пламенней, там никаких покрывал нету от жары.
Когда Пархоменко услышал впервые этот вопрос, он спросил:
— Вы из Ашхабада?
— За каким дьяволом меня туда потянет, я человек больной дыханием. — И он продолжал, хватаясь за грудь: — Мы из Архангельска, наша жара живительная…
Скоро стало заметно, что он называет все более и более дальние, но жаркие места, словно он плывет на каком-то невидимом пароходе к тропикам. Жару, тесноту и давку Москвы, суматоху ее и вообще весь пламень страны он расширил до пределов всего земного шара, и, наверное, во сне ему казалось, что он раздувает, как стеклодув, громадный пылающий шар, а наяву — так как он знал, что легких у него не хватает и дышать ему трудно, — он говорил о жаре, но без всякой зависти, наоборот, с любовью смотрел на широкую грудь Пархоменко, на его спокойное и сильное дыхание.
— Дуете? — спрашивал он.
Пархоменко, улыбаясь, отвечал:
— Дую в иерихонскую трубу. Кое-где стена уж упала!
Сосед садился на кровать, доставал кожаный портсигар и протягивал Пархоменко. В комнате было такое ровное и почти неслышное дыхание спящих, как будто где-то рядом работали сильные и большие мехи. Так спать, думал с удовольствием Пархоменко, могут только чрезвычайно утомленные, но нашедшие справедливость люди!