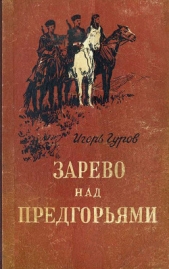Зарево
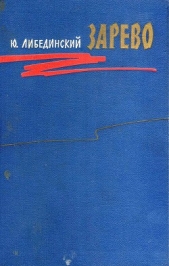
Зарево читать книгу онлайн
Крупный роман советского писателя Юрия Либединского «Зарево» посвящен революционному движению на Кавказе в 1913–1914 гг.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Кази-Мамед покачал печально головой и ответил:
— Мой дом — между горами и небом. Горы и небо — откуда хлеба добыть? С детства лазаем мы, дагестанцы, по скалам, и по всей России разбрелись канатоходцы из Дагестана. Мы стали сильны и крепки, и есть у нас в Дагестане аул, из которого выходят борцы, которых показывают в цирках всего мира. Ну, а я пришел в Баку.
И он замолчал.
— А глаза у него печальные, — говорила потом Гоярчин Алыму. — Вы, горцы, скрытные, не то что мы, люди с равнины. Мы о горе своем поем, а вы молчите… Есть у брата Кази-Мамеда свое скрытое горе, оно, верно, и увело его навсегда с родины.
Что ж, может, женский острый глаз Гоярчин и проник в душу Кази-Мамеда, может, и права она.
Сидя сейчас на корточках возле каменной стены и дожидаясь Кази-Мамеда, задумался Алым о странной своей судьбе.
Алым был из бедной семьи, но бедность едва ли выгнала бы его из родных гор, если бы не пришла пора жениться. Он присмотрел себе невесту, узнал о калыме и отправился в Баку: говорили, что, проработав там год, можно прикопить денег. Но за год работы он убедился: чтобы собрать сумму, достаточную для выкупа невесты, нужно работать лет десять. В Баку Алым занят был на самой черной и опасной работе: копал нефтяные колодцы. Когда копаешь, снизу все время струится газ и отравляет дыхание, в любую секунду может кинуться вверх потревоженная нефть… Каждый день приносила обед своему отцу, старшему среди рабочих, сухолицему, ворчливому Ахмету, маленькая, неслышная, как мышь, девушка. Алыму удалось рассмотреть сквозь черное кружево ее нежное лицо. Статный черкес тоже поразил сердце девушки: какая-то у него была особенная, сдержанная и полная достоинства повадка.
Да и отец ее невольно способствовал тому, что дочь полюбила черкеса, — очень расхваливал он Алыма за смелость в работе. Тогда в яму глубиной не менее пятнадцати метров спускали рабочего, он черпал нефть ведрами, и ее тросами подымали наверх. Опасное дело! Но Алым не бросал этой работы и неплохо зарабатывал. У Ахмета было три дочери, и ни одна еще не выдана, а сын только один, да и тот младший, ждать от него помощи пришлось бы долго. На счастье, Гоярчин, понравившаяся Алыму, была старшая и достигла пятнадцати лет, пора было думать о женихе. «Конечно, в таком городе, как Баку, где столько достаточных людей, красавица дочь — это благодать, которую аллах посылает правоверному», — так толковал мулла, предлагая помочь Ахмету с выгодой сбыть дочку в самый знатный дом. Но это значило, что девушка попадет под гнет злой старшей жены, что она увянет в руках пресыщенного развратом богатого мужа, который, натешившись, сменит ее другой. Родители отказались устроить таким образом судьбу своей дочери. Но тут ей стала грозить другая, еще более страшная участь: чем старше и красивее становилась она, тем вернее могли ее украсть. За красивыми девушками охотились, как за дичью, и сбывали их в Персию, в Турцию. Вот почему к сватовству Алыма в семье уста Ахмета отнеслись благосклонно. Старик уже пригляделся и оценил работящего, скромного, смелого юношу.
Участвуя в великой стачке 1908 года, Алым показал себя стойким товарищем. За время стачки умер его старший сын, но и это горе не сломило мужества Алыма. В труде проявлял он такую же настойчивость и за семь лет жизни в Баку переходил от одной квалификации к другой, все время к более высокой. А когда на промыслах Сеидова совсем недавно был впервые приобретен буровой станок Рамазанова, Алым взялся применить этот станок к делу.
Конечно, не легко жить в Баку, дети умирали (шесть раз рожала Гоярчин, а в живых остались только двое), но крепко врос Алым в бакинскую жизнь. Далеким, бледным и скучным сном казалось Алыму пастушеское детство и юность в горах, и не было для него иной доли, как жить в Баку вместе со своими товарищами, делить с ними и тяжкую жизнь, и светлые надежды. Здесь он всегда был готов по зову партии исполнить любое самое опасное поручение.
Кази-Мамед подошел к Алыму и сказал:
— Я обо всем сговорился с Буниатом. Но он хочет сам с тобой увидеться, а это возможно будет, когда кончится совещание. Идем со мной.
Они миновали контору заведения. В этой пустой комнате, кроме курчавого мальчика-счетовода, звонко отбрасывавшего костяшки на счетах, не было никого. Они вышли в полутемные сени. Здесь скрежет и визг обрабатываемого железа стал сразу резче. Одна из дверей вела прямо в мастерскую, но они миновали ее и очутились на пустыре, окруженном высоким забором, из-за которого виднелись вышки и трубы. Пустырь этот был завален старым красновато-ржавым железом: ведра, жестянки, желонки — все продавленное, разбитое, давно вышедшее из употребления. Здесь среди груды железа стоял старичок сторож в черной папахе. Оперши на палку свой седой бритый подбородок, он неподвижно следил за тем, как Кази-Мамед и Алым пересекают пустырь.
Совещание уполномоченных происходило возле старой, наполовину разобранной вышки, сложенной из гнилых, почерневших досок. Наверно, здесь был когда-то нефтяной участок, но хозяин посчитал его истощившимся — может быть, потому, что богатые соседи стали бурить более глубоко и более совершенным способом, и нефть ушла к ним. Тогда, должно быть, хозяин забросил участок, а здание конторы сдал под мастерскую. Так думал Алым, стоя за углом вышки и прислушиваясь к негромкому, слегка хрипловатому голосу, который раздельно по-азербайджански читал требования забастовщиков… Эти требования были знакомы Алыму, они обсуждались на их участковом совещании. И все же он заслушался, справедливость этих требований, которые он знал почти наизусть, вновь поразила его. Ненависть и презрение к нефтепромышленникам, к их подлой, злой и глупой неуступчивости, с такой силой охватили его, что он почувствовал, как волна крови вдруг прихлынула к его сердцу. Сколько времени Алым работал в Баку, столько времени бакинские нефтяники требовали, чтобы созданы были рабочие поселки вне промысловых территорий. При каждой забастовке это выдвигалось главным требованием. И хотя иногда рабочие побеждали, хозяевами оно ни разу удовлетворено не было, если не считать создания поселка в так называемом Шиховом селе, возле промыслового района Биби-Эйбат. Казалось бы, этот скромный, но вполне удавшийся опыт мог убедить хозяев. Но нет, до сих пор рабочие ютились в полуразрушенных домах и хлевах тех многочисленных деревень около Баку, земледельческое население которых или растворилось в волнах пришлого рабочего люда, или уходило. А на промысловых участках предприниматели строили то, что называлось «рабочие казармы», но их нельзя было признать сносными помещениями даже для скота — низенькие, темные жилища с земляным полом и обмазанными глиной стенами. Здесь все было пропитано нефтью, здесь почти поголовно вымирали дети, а взрослые старились на два десятка лет раньше. Квартирная плата за эти жилища составляла источник дополнительного обогащения хозяев. «Все жадность ненасытная», — думал Алым, слушая негромкий голос, отчетливо выговаривавший каждое слово, — пожалуй, даже чересчур отчетливо, так сами азербайджанцы не говорят. И от злобы и ненависти Алым переходил к уверенности в мощи бакинских нефтяников, мощи, которая должна себя проявить в подготовляющейся забастовке. Вслед за скупыми словами требований картина новой светлой жизни стала вырисовываться перед ним.
— …в квартирах должны быть деревянные крашеные полы, стены покрашены и поставлены кровати железные с металлическими сетками. И чтобы проведено было всюду паровое отопление и электрическое освещение…
«Может быть, деточки наши остались бы живы, если бы все так было», — думал Алым.
— …и школ нужно столько, чтобы никому из детей рабочих в учении не отказывать, а обучать детей бесплатно. И чтобы для рабочих, которые неграмотные, тоже были открыты вечерние бесплатные школы, и детей каждой национальности обучать на родном языке…
Кто это говорит? Буниат? Но у Буниата голос другой, громче, звонче. Алым выглянул из-за угла вышки, чтобы рассмотреть говорившего, и, увидев его, изумился: среди рабочих, расположившихся по глинистой насыпи, окружавшей вышку, стоял невысокого роста русский человек. По-русски, на косой пробор расчесанные волосы, прямые и коротко подстриженные; русские, глубоко сидящие глаза смотрели, казалось, в самую душу…