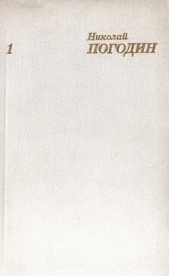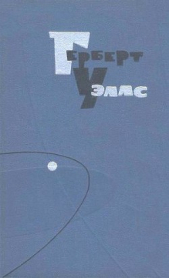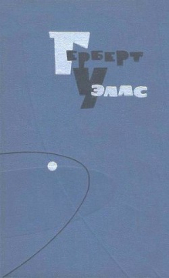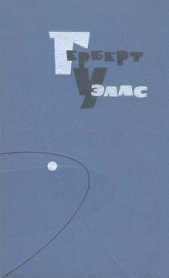Собрание сочинений в 4 томах. Том 2

Собрание сочинений в 4 томах. Том 2 читать книгу онлайн
Во второй том Собрания сочинений Н. Погодина включена трилогия о В. И. Ленине — «Человек с ружьем», «Кремлевские куранты» и «Третья, патетическая», за которую автор получил Ленинскую премию, а также произведения разных лет, написанные на историко-революционную тематику: «Заговор Локкарта» («Вихри враждебные»), «Багровые облака» и «Не померкнет никогда».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Юлай (думающе). Всех порежем! Русских резать будем, татарву тоже будем, наших башкир мало-много порежем… Всех порежем, кто есть богатый. Потом нам хорошо будет. (Поет неизвестную песню.) Какие богатые люди есть кругом, всех порежем. Русских много богатых, казанских татар тоже хватает… башкир маловато, однако, тоже их порежем. Очень хорошо будет.
Входит жандарм.
Жандарм. Молишься, башкирская башка?
Юлай. Ага, ваше благородие, молитву читаю, ваше благородие.
Жандарм. Хочешь бунтовать, сукин сын? Ой, желаешь, ой, знаю… Нехристи! Но я, между прочим, не ваше благородие, а унтер-офицер, младший чин жандармской полиции, такой же подневольный человек, как и ты.
Юлай. Как ты Юлайку с собой равняешь? Нельзя. Юлайка обязан тебя бояться, ты старший жандарм на станции, а Юлайка — башкир, голая задница.
Жандарм. Теперь, Юлай, абсолютно неизвестно, кто кого должен бояться, потому что этот девятьсот пятый год во всех священных книгах страшными знаками обозначен. Дай господи, чтоб оно до нас не дошло. Ты ведь, дурак, мечтаешь бунтовать… Бунтуй, фонарщик! Пороть будут вашего брата, знаешь как!.. До самых костей и становых жил. И за дело.
Юлай. Что ты, унтер… Кого смирнее меня найдешь? Никого.
Жандарм (указывая на небо). Видишь? Нехорошее небо. Усадьба Миловидовых горит, теперь мельницу купца Братова подожгли. Кому-кому, а вам, башкирцам, плохо будет. Встревать я не рекомендую.
Юлай. Спасибо, господин Антропов. Кто меня, дурака, научит? Никто.
Жандарм. Яс тобой, как с равным, харя!.. Жалеючи… а не то что по чину жандармской полиции, понял?.. Слушайся просвещенных которые. Будь здоров. (Уходит.)
Юлай (мечтательно). Всех порежем.
Входят Костромин и Тася.
Костромин. Доброе утро, Юлай Усманович, еще не светало, а ты лампы гасишь.
Юлай. Нынче небо всю ночь горит. Видишь? Хорошее небо. Покидаешь нас, Гриша, большая жалость. Прямо в Петербург?
Костромин. Может быть, и поближе.
Юлай. В Уфу езжай, очень нужно тебе поехать в Уфу. Любим тебя, как сына родного, однако нечего делать тебе на станции.
Костромин. Слышите, Тася?
Юлай. Барышню вроде я не заметил. Мое почтение, барышня. Вам не жалко Гришу провожать?
Тася. Жалко.
Юлай. Всем жалко. Где найдешь лучше? Нигде не найдешь. Прощайтесь, мешать не стану. Гриша, прощай. Юлай Усманов никогда тебя не позабудет. (Уходит.)
Тася. Любят вас они все… ох, как любят!
Юлай (вернулся). У меня жена, дети, кормить-поить надо. А кабы Юлай был моложе, то ходил бы с тобой по всей земле, берег тебя. Прощай. (Уходит.)
Тася (страстно). Не могу слышать этого слова, ножом по сердцу. Я теряю разум. Неспособна вообразить, что мы в самом деле прощаемся… быть может, навсегда прощаемся. Это чудовищно. Это все едино, что слепому дать увидеть ясный день на один какой-нибудь час и потом ослепить его снова навеки. Какая жестокость! Какая трагедия! Не верю. Что-то должно случиться… Быть может, я брошусь под поезд и поезд застопорит, и герой моего несчастного романа сжалится над своей бедной Лизой [83] и не отдаст свою жизнь всем обездоленным и несчастным, а вручит ее одной обездоленной, одной несчастной, которая любит его, как не могут все эти, существующие в огромном пространстве тысячи и миллионы чужих вам людей. Вы скажете опять, что я декламирую. Да, декламирую, на то я окончила классическую гимназию. Но даже ваш Максим Горький декламирует, а он вас восхищает. Только одна я не могу тронуть, не могу вызвать капли сострадания. Какая жестокость! Какая тоска! Гриша, останьтесь, милый мой Гриша!
Костромин. Я люблю вас, Тася.
Тася. Нет.
Костромин. Люблю, вы знаете.
Тася. Нет.
Костромин. Знаете и растравляете себя ложной мыслью о моем равнодушии. Не желая посмотреть правде в глаза, вы застилаете свой взор туманом выдуманной обиды.
Тася. «Правда», «правда»… Правда в том, чтобы любить и жить.
Костромин. Правда в том, что я революционер, боевик и, оставаясь здесь в такое великое время, сделался бы предателем. Даже неграмотный Юлай посылает меня в Уфу, где все кипит, где еще в мае стреляли в губернатора… Не Уфа, так Самара, не Самара, так Москва, ибо всюду кипит, всюду назревают грандиозные дни восстания. Посмотрите на эти багровые облака. Вот моя жизнь.
Тася. В облаках?
Костромин. Тася, не заставляйте меня говорить колко. Но если вы не хотите понять меня как следует, то я скажу вам, в каких облаках я живу. Вы теперь должны знать правду как моя невеста, как первый человек на земле… словом, должны знать правду, потому что пришла пора перейти на серьезный тон взрослых людей…
Тася. Говорите, я знаю, что это страшно… (Порыв.) Невеста… Любовь моя… Говорите, теперь мне будет легче узнать от вас самую страшную правду.
Костромин. Итак, что вы знаете обо мне?.. Студент-технолог, изгнанный из храма науки за некие неблаговидные в видах царствующего дома поступки. Двадцать три года. Одевается демократически, умеет делать любую работу, читает стихи и цитирует манифест Союза коммунистов наизусть. Дальше. Он наезжает сюда в гости к своей дальней родственнице, Наталье Николаевне Пчелиной, фельдшерице земской больницы святого Пантелеймона. Родителей у него нет — круглый сирота. Дальше. Он приезжает в конце августа и проводит три месяца в домике госпожи Пчелиной, лечась кумысом от туманных немощей или затуманенных легких. Что же тут правда и что неправда, ибо вы догадываетесь, что тут много неправды.
Тася. Ох, догадываюсь.
Костромин. Дело в том, Тасенька, что Костромин — это вымышленная, по подложному паспорту, фамилия, а я урожденный Пчелин, и Наталья Николаевна — моя мать.
Тася. Гриша, бедный…
Костромин. Пчелина уже второй год ищут по городам и весям… И скрываем мы наши отношения с матерью главным образом потому, чтоб не провалить ее, а это непременно случится, если я попадусь в руки жандармам.
Тася. Гриша, значит, и она — политическая?
Костромин. Как сказать… Есть много людей в России, подобных ей, которые свято помогают делу грядущего социализма. Здесь рядом Южный Урал, Златоуст, Миасс [84], Миньярские заводы [85], а местоположение неприметное. Через больницу святого Пантелеймона русский центр нашей партии связывается со всем югом Урала. Ну, а лечился я здесь не от затемнения в легких, а от сквозной раны в предплечье, которую получил в Москве во время перестрелки с полицией.
Тася. Боже, боже… Так скрывать!
Костромин. Не шумите, Тася, это уже конспиративный разговор. Теперь я здоров, врач разрешает мне вернуться в ряды бойцов, благо и время приспело. Вот видите, в каких облаках я живу.
Тася. Как верно я чувствовала, что вы необыкновенный… нет, вы герой, конечно.
Костромин. Герой не герой, не в этом суть. Мне моя роль очень нравится, вот что главное. Во мне нет ничего байронического, кроме разве что жгучих усов, которые мне нужны для конспирации. Я даже могу подметки ставить на сапоги, но встаю по утрам со стихами… (Увлекаясь.)
Или, вспомните: