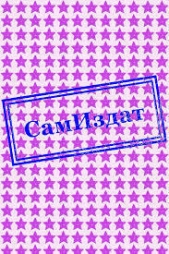...И вся жизнь (Повести)
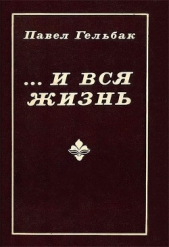
...И вся жизнь (Повести) читать книгу онлайн
В данное издание вошли повести писателя Павла Гельбака.
СОДЕРЖАНИЕ:
Ночи бессонные. Повесть.
Дни беспокойные. Повесть.
Отдых на море. Повесть.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Так это вы!
— Эта статья — другое дело. Здесь чувствуется, что автор искренне озабочен, возмущен. Такие статьи и должны писать партийные журналисты. Желаю вам и в будущем так относиться к делу!
Дела больничные
Лучи весеннего солнца ворвались в палату через огромное, во всю стену, окно. Палата небольшая — всего на две койки. Больной на кровати, стоящей у окна, безмятежно спал, накрыв одеялом даже голову. Из-под одеяла доносился богатырский храп. Он, наверное, и разбудил Павла Петровича. Лежать не хотелось. Ткаченко осмотрел палату, потрогал стоящий на тумбочке телефонный аппарат, снял трубку, телефон не работал, увидел наушники, висящие на спинке кровати, слушать радио не стал, передавали утреннюю гимнастику.
— Проснулся? — высунул из-под одеяла голову сосед.
— Как видите! — к своему огорчению, Ткаченко узнал в соседе Герасима Кузьмича.
— Рад, что тебя оформили в мою палату. Хоть принципиально я и выступал против, хотел даже писать жалобу на дежурного врача. Дело в том, что на твоей кровати лежал один старикашка, так его ночью подняли и перевели в другую палату. Допустим, ты тяжело заболел и тебе нужен кислород. В другой палате нет у кровати крана от кислородной установки. Но разве есть такое указание, чтобы ночью больных беспокоить? Но тут узнал, что именно тебя крепко скрутило, успокоился…
— Прими мои извинения за ночное беспокойство. Почему ты решил, что меня крепко скрутило?
— Не глухой я… Слыхал, как сестричка говорила, что ко мне в палату положат тяжелого больного, прободение какой-то кишки у тебя произошло, а это дело серьезное…
Такая новость кого угодно огорошит. Ткаченко стало зябко. Неужели прободение? Теперь операции не миновать.
Солнце растопило сосульки, нависшие над окнами. Зазвенела весенняя капель. Какая-то птаха уселась на перила балкона. Весна идет. Через месяц-другой и на дачу. Каждое утро станут с Тамарой бегать на речку. Утренние купания — прелесть, лучше любого лекарства, потом весь день бодрое настроение. А дождется ли он весны, понадобится ли в этом году дача или… Об «или» не хотелось думать. А дурные мысли снова лезли в голову. На Нагорном кладбище все больше и больше знакомых могил. Спецбольница совсем недавно открылась. Стены, кажется, еще хранят запах свежей краски, а для скольких эти палаты стали последним пристанищем на свете. Те люди тоже, наверное, мечтали встретить весну, попить березового сока, искупаться в реке, побродить по хвойным просекам, съездить в родные места — такие скромные и такие невыполнимые желания!
Герасим Кузьмич, словно не замечая настроения соседа, говорил о своих хворобах: сердце — такая штука — шуток не признает. Поволновался на заседании редколлегии и вот изволь теперь валяться в больнице. Не научились у нас еще беречь старые кадры. А врачи? Что они понимают. Говорят, можно и выписываться. Номер не пройдет. Столько лет горел на работе, теперь пусть врачи оплачивают долг общества ветерану.
Павла Петровича раздражал голос соседа, его рассуждения казались наглыми и даже болезнь нарочитой, выдуманной. А почему, собственно? Ведь давно известно: у кого что болит, тот о том и говорит.
Мрачный диагноз, к счастью, не подтвердился. Язва не кровоточит, но ординатор, миловидная кареглазая женщина, предупредила Ткаченко, что недели три, а может быть, и месяц придется полежать. Не стоит торопиться выписываться — раз уж попал в больницу, надо тщательно исследоваться, когда еще такая возможность представится. Тем более, что давно пора по-настоящему заняться лечением язвы.
— Раньше, чем через месяц не выпишут, — предупредил Герасим Кузьмич, — на язву выделен месяц сроку, и, значит, против решения не попрешь…
Начались больничные будни, когда и делать вроде нечего, но и времени не хватает книгу почитать. С утра различные процедуры, потом обход врачей, затем уколы, обед, час отдыха, прием посетителей, бдение у телевизора. В промежутках нудные будничные разговоры, которые, как правило, начинаются с «мебельных тем». «Мебельными» Ткаченко назвал разговоры о том, какой у кого был «стул», кому какой выписали «стол». Герасим Кузьмич, например, гордился тем, что сумел доказать врачам необходимость перевести его на «общий стол».
— Здесь, дорогой товарищ, нельзя допускать уравниловки. Ты, как и другие «доходяги», обязан сидеть на «первом столе», пока твое положение не прояснится. А если я выздоравливающий, то выдавай сполна все, что государство определило. Деньги на харч отпущены, и я не позволю экономить за мой счет…
Кроме «мебельных», донимали Ткаченко и бесконечные разговоры о болезнях на «проспекте язвенников». Так больные окрестили длинный коридор, который протянулся через весь этаж. С одной стороны двери палат, с другой — столовая, процедурные комнаты, ординаторская, телевизионная или комната для игр, утолок для посетителей. На «проспекте язвенников» люди, которые до больницы были едва знакомы, доверительно и, пожалуй, излишне откровенно сообщали о своих болезнях, физических недостатках, словно старались разжалобить друг друга, выставить на всеобщее обозрение свои раны. Совсем как нищие на церковной паперти, которых еще в детстве наблюдал Ткаченко и которые сейчас, спустя десятки лет, вызывают у него не сострадание, а отвращение. До чего же хорошо, что Павел Петрович не внял уговорам матери и не стал врачом, а то всю жизнь только и слушал бы эти несносные жалобы.
На «проспекте язвенников» состоялось знакомство Ткаченко с матерью Жени. Любовь Павловна сама подошла к Павлу Петровичу и представилась. Ткаченко обрадовался встрече, разговор начал с дочери.
— У меня такое чувство, что я с вами уже знаком. Дочь вылитая мать, такая же красивая…
Любовь Павловна грустно усмехнулась:
— Такие красавицы обычно стараются не смотреть в зеркало и готовы ревновать себя к своим портретам.
— Что вы, — запротестовал Ткаченко, — не наговаривайте на себя. Скоро выписываетесь?
— Рада душа в рай, да грехи не пускают. Когда я спрашиваю, врачи дают уклончивый ответ. Вот и я стараюсь на этот вопрос отвечать уклончиво.
Вечером, уже готовясь ко сну, Павел Петрович опять подумал о Печаловой. Она, наверное, хотела услышать что-нибудь определенное об отношениях Анатолия с ее дочерью, об их планах на будущее. Любовь Павловна догадывается, что ей мало времени отведено на устройство земных дел. Но ни о чем ни спросила. А если бы и спросила — что мог ответить Павел Петрович? Разве может кто-нибудь сказать, пойдут ли дальше вместе Евгения и Анатолий, будут ли они счастливы?
Остается ждать и надеяться. Если нет времени ждать — тогда все равно надеяться и верить.
— Поздравляю, пленум Принеманского горкома партии занимается произведениями твоего сына…
— Покажи, — Павел Петрович выхватил из рук Герасима Кузьмича свежий номер «Зари Немана».
На второй полосе был напечатан репортаж с пленума Принеманского горкома партии. На его обсуждение вынесен вопрос: «О статье „В защиту „Сергуньки““ в газете „Заря Немана“».
— Делать им нечего, — возмущался вслух Герасим Кузьмич. — Пленум горкома партии. Понимаешь, не бюро, а пленум… И какой вопрос поставили на обсуждение: статья молодого репортера о судьбе какого-то пацана. В наше время на пленумах обсуждались лишь большие государственные, хозяйственные, идеологические вопросы, а сейчас — «В защиту Сергуньки». Неужто вся партийная организация Принеманска должна встать на защиту мальчишки, а проблема-то выеденного яйца не стоит — позвонил по телефону, и вопрос решен… Да, я был против того, чтобы печатали его статью. Не знаю, может быть, и недооценил. Но чтобы пленум такими вопросами занимался. Это уж слишком!
Павел Петрович не слушал соседа. Быстро пробежав глазами строчки репортажа, он затем стал медленно перечитывать напечатанное, смакуя каждое слово. Судьба одного ребенка поставлена в центр внимания всех коммунистов областного центра. О судьбе Сергуньки говорят партийные работники, руководители комсомольских организаций, учителя, представители милиции, народные судьи. Многие из них на этом пленуме чувствуют себя неуютно, не думали и не гадали, что так для них обернется дело никому не известного мальчишки. А вот теперь приходится держать ответ перед городской партийной организацией за то, что Сергуньке негде оказалось жить, что он бросил учебу и был предоставлен самому себе.