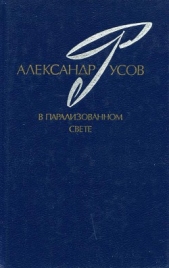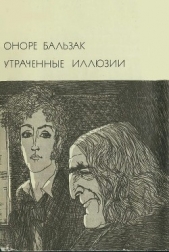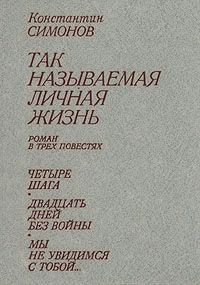Иллюзии. 1968—1978
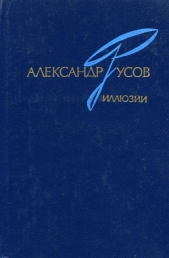
Иллюзии. 1968—1978 читать книгу онлайн
Повесть «Судья» и роман «Фата-моргана» составляют первую книгу цикла «Куда не взлететь жаворонку». По времени действия повесть и роман отстоят друг от друга на десятилетие, а различие их психологической атмосферы характеризует переход от «чарующих обманов» молодого интеллигента шестидесятых годов к опасным миражам общественной жизни, за которыми кроется социальная драма, разыгрывающаяся в стенах большого научно-исследовательского института. Развитие главной линии цикла сопровождается усилением трагической и сатирической темы: от элегии и драмы — к трагикомедии и фарсу.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
видишь вот это
75-миллиметровка сделала
это никто бы не мог
поверить что это не
враки ведь это был мой
приятель
ну не смешно ли
мы ведь с ним были
неразлучны
Мы срезали поля и последний слог «ла» у слова «сделала». Получилось как раз: полоска точно уместилась между пионом, горами и парным портретом.
XVII
Праздников оказалось недостаточно. В конце четвертого дня, погибая от усталости, мы ползали со Светланой по полу, усыпанному обрезками, не в силах прекратить это изнурительное занятие. Точно заядлые картежники или алкоголики, мы говорили друг другу: вот эту — и все. Эта последняя. А потом кто-нибудь вытаскивал из груды рассыпанных снимков фотографию Базанова-мальчика, или капустинского «Икара», или женский портрет.
— Кто это? — спрашивала Светлана.
— Ты не знаешь.
— Все-таки?
— Моя первая жена.
Вместе с новыми извлечениями приходили свежие идеи, требующие немедленного воплощения.
— Давай еще эту, а то забудем.
— Мы завтра утром не встанем.
Что и говорить, такая игра захватывает. Ощущаешь себя не только создателем новой реальности, но и вершителем чужих судеб. В твоей власти свести одних и развести других, выставить одного в смешном, другого в печальном свете, переиграть проигранную игру, восстановить попранную справедливость. Особенно хорошо играть в такие игры, если ты не был когда-то живым их участником.
— Алик!
— Да, милая.
— Кто этот величественный старик?
— Романовский.
— Кто?..
…Конечно, Базанову некуда было деться от новых, внезапно свалившихся на него союзников. Он не мог не испытывать к ним благодарности. Его все еще мучила жажда, и за глоток воды он готов был отдать целое состояние. Практически никакого выбора. Базанов оказался к тому времени слишком измученным, сил не осталось даже на то, чтобы продумать и выдвинуть свои условия. Либо он раскрывал объятия новоявленным друзьям, в чьих руках оказался едва ли не весь институт, и становился их знаменем, либо… Что последовало бы за его отказом?
Он был не готов к неизвестности, к тревогам и ожиданию новых опасностей. Или я говорю все это лишь для того, чтобы оправдать Виктора? Они и вправду находились в неравном положении — только что вступившие в дело, но уже обстрелянные, полные сил бойцы и обессилевший полководец, медленно приходивший в себя после перенесенного микроинфаркта.
Его все чаще мучили беспричинные страхи — следствие перенесенного сердечного заболевания. Раздражался по пустякам, впадал в уныние. Дорожи «союзники» своим лидером, они бы не взвалили на него организацию новой лаборатории — да еще такой, как лаборатория поисковых исследований. Тот же Январев, зная базановскую неприспособленность к административной работе, мог взять на себя бо́льшую часть забот по приобретению оборудования, открытию новых тем и координации работ с гарышевской лабораторией. Но каждый думал о себе. Всем им уже казалось, что перемены в институте произошли исключительно благодаря их усилиям. («Пусть думают, что все это сделали они сами», — должен был бы заметить Базанов.)
Я говорю: «они», хотя следует сказать: «мы были должны». Все, кому выпало жить в тот период великой институтской ломки. Ведь едва ли не каждый так или иначе участвовал в ней, выигрывал или проигрывал от происходивших перемен.
Были старики и молодые. Куда как легко различимый признак! Словно красный или зеленый свет, да и нет, белая или синяя майка футболиста. Френовский, Кривонищенко, их компания, с одной стороны. Базанов, Рыбочкин, «железная пятерка» — с другой. А между двух полюсов динамо-машины, не примыкая ни к одному, существовал в опасном поле борьбы и вражды некто Романовский — не столько старший, сколько старый научный сотрудник.
— Кто такой Романовский? — спросила Светлана.
Как же его звали? Валентин Петрович — вот как. Валентин Петрович Романовский.
Первое сохранившееся воспоминание: идет заседание ученого совета. Я только что поступил работать в институт и еще никого не знал. Не понимал добрую половину того, о чем говорили. Будто вошел в темный кинозал, а фильм давно начался. Фильм психологический, никаких событий — только разговоры. Был ли Базанов в зале? Не помню. Если и был, то, как и я, в качестве зрителя. Далекие годы. Середина шестидесятых. Среди выступающих, голосующих ни одного молодого. Но это по тем, пятнадцатилетней давности, понятиям. Френовскому — около пятидесяти, Наживину, Ласкину, Мороховцу — лет по сорок пять. Почти ровесники нам, нынешним. Самые пожилые — Кривонищенко, Грингер. Разумеется, Френовский уже тогда премьер. А Станислав Ксенофонтович уже тогда производил впечатление древнего старца. В течение пятнадцати лет он почти не менялся. Впоследствии Грингера сменил Валеев. Леву Меткина на место заведующего лабораторией № 35 посадил он.
Ни Левы, ни Валеева, ни тем более Гарышева на том заседании не было. Не могло быть. В заседаниях подобного рода они не участвовали. До крайности тихо и скромно вели себя эти ребята. Не высовывались.
Вспоминаю лица того времени. Почему-то в памяти они отдельно от тех, с кем довелось впоследствии работать бок о бок. При ближайшем рассмотрении люди оказались не совсем такими, какими казались на заседании ученого совета, собранного в небольшом зале в нашем корпусе отдела преобразователей (ОП). Я смотрел во все глаза, слушал во все уши.
Что значит новизна впечатлений! Я впитывал каждое слово, подмечал всякое изменение интонации, пытался уловить аромат, дух, характер происходящего.
Разные люди говорили о чем-то, к чему-то одному приводили их разные пути извилистых рассуждений. Расходились в стороны, разбредались по лесу, а потом непостижимым образом сходились. Конечным пунктом неизменно оказывалась точка на карте, намеченная кем-то невидимым. Они все встречались в назначенном месте сбора в предусмотренный срок.
И вдруг в эту виртуозную слаженность врывается седовласый старик, просит слова, спешит по проходу между рядами стульев, останавливается у небольшого возвышения сцены, поворачивается к залу и, астматически задыхаясь, начинает свою сбивчивую, пространную, взволнованную речь. Вижу его чеканный профиль, точно из бронзы отлитую, наливающуюся густой краской скулу. Старик Романовский опровергает доводы предыдущих ораторов: сколько можно толочь воду в ступе — не первый год обсуждается этот вопрос, каждый раз принимаются половинчатые решения, а воз и ныне там.
Дремлют на своих стульях ветераны, как лет десять спустя буду дремать я, о чем-то, скорее всего постороннем, перешептывается председатель с секретарем, новые ораторы тянут нити своих выступлений в ту же точку — в центр тяжести давно сложившегося status quo. Будто никто не заметил выступление чудака Романовского, никому его доводы не показались здравыми и достойными возражений. Принимается единогласно при одном воздержавшемся.
Новые заседания, совещания, собрания. На каждом Романовский выступает с критикой. Единственный человек в институте, кто осмеливается критиковать директора, Грингера, Кривонищенко. А ведь он даже не заведующий лабораторией. Почему его терпят?
В разное время, в разно складывавшихся политических ситуациях Романовскому предлагали более или менее высокие должности, и всякий раз он отказывался, повторяя любимое свое изречение: «Позолота сотрется — свиная кожа остается». Таким вот оловянным солдатиком был старик Романовский. Его разработки давали институту весомый экономический эффект, но большую часть жизненных сил он вложил в создание теории «внутренних напряжений», которую старшее поколение воспринимало с насмешливой снисходительностью, а молодое именовало сущим бредом. Даже осторожный, когда речь шла о новых теориях, Базанов говаривал:
— Конечно, все эти «внутренние напряжения», которыми Романовский пытается объяснить не только плохое качество наших мембран, но и движение планет, — чистой воды фантазия. Пусть себе фантазирует. Во всяком случае, от него не пахнет мылом и ординарностью. Прекрасный человек.