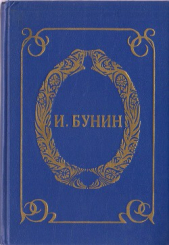Родительский дом
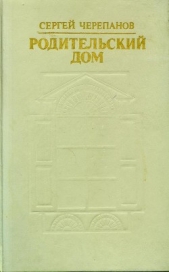
Родительский дом читать книгу онлайн
Жизнь деревни двадцатых годов, наполненная острой классовой борьбой, испытания, выпавшие на долю новых поколений ее, — главная тема повестей и рассказов старейшего уральского писателя.
Писатель раскрывает характеры и судьбы духовно богатых людей, их служение добру и человечности.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Нам это известно!
— Значит, ты сознательно не туда, куда надо, свою линию гнешь!
— Стоп! Не заговаривайтесь! — пристукнул Гурлев ладонью по столу. — Я уже партейную чистку прошел, считаюсь проверенным, никаких шатаний у меня не было. Худо ли, плохо ли, а Малый Брод перед государством не оставался в долгу. План по заготовкам хлеба исполнен, по налогам и сборам уплачено до копейки. Что касается погибели Кузьмы Холякова, я с себя вины не снимаю. Оплошал. За то и понес наказание. Мало? Давайте еще!
— Тебя следовало из партии выгнать поганой метлой. Теперь, пожалуй, мы вернемся к этому делу.
— Ваше право!
— Поаккуратнее проверим, кто ты.
— Мне тоже гребтится узнать: всамделишный вы партеец или снаружи такой…
Было бы промолчать, но слова сами с языка сорвались: поторопился, разгневался, не сообразил, в какую точку попал.
— Да ты, и верно, вражина! — яро, но приглушенно выругался Авдеин. — Я тебе покажу!
— Эк напугал!
— Подай сюда свой партийный билет!
— Для чего?
— Под суд пойдешь! За соучастие в гибели Холякова и как предатель. От людей правду не скрыть. Вот что они о тебе нам написали. — Авдеин достал из бокового кармана пиджака сложенную бумагу, развернул, ткнул пальцем:
«Гурлев загубил Кузьму. Взял у него из казенных денег пять сотен рублей, а потом, чтобы долг не отдавать, сманил к бандиту Барышеву, тот его убил в полевой избушке…»
Хуже чем обухом по голове! У Гурлева дыхание оборвалось и в глазах потемнело. Он покачнулся на стуле, с трудом поправился:
— Разрешите взглянуть, кто писал?
— У прокурора узнаешь, — победно сказал Авдеин. — Ему же и станешь доказывать. А пока что с должности секретаря партячейки я тебя отстраняю. Партбилет сейчас заберу. Подавай!
— Не отдам! — твердо отказал ему Гурлев. — Ты, Авдеин, сначала святую веру из меня изгони, а покудова я коммунист, не смей прикасаться. Давай призовем всех наших партейцев: что они скажут?
— Разводить дискуссии я не намерен. А вот завтра соберу бюро, и тебя исключим. Вы срослись тут, спелись…
— Очень ты далеко заехал, Авдеин! — высказал Гурлев. — Думаешь, я простой мужик, так можно из меня веревки вить не то смолой обмарать. Это очень даже напрасно! Ты сначала с мое пострадай, с мое для партии и Советской власти сил положи, но и то я тебе не дозволю надо мной измываться! Хочешь меня проверить? Могу ли я умереть за свою правоту?
Никогда еще не бывало в нем столько отчаянности и обиды, не рвалось так сердце на части. Он вынул из кармана наган и положил его перед Авдеиным.
— На! Застрели меня! За то застрели, что не отдаю партбилета в твои поганые руки! Струсишь? Так я расписку напишу тебе в оправдание… Кулаку не дозволил бы, но тебе…
Авдеин выскочил из-за стола, побледнел, одичало сверкнул глазами из-под очков, затем выбежал из читальни и тотчас уехал.
Гурлев окаменело посмотрел ему вслед. Когда Федот Бабкин и братья Томины захотели узнать, что же такое тут приключилось, он даже не повернул к ним головы.
Так он сидел еще долго, без мыслей, почти что не видя света. Его знобило. Тяжко заныла рана на теле.
Позднее он признался Бабкину в своей слабости и горько осознал, что сорвался.
— Кулак обрезом, а такой Авдеин словами навек может душу убить.
— У него сила, а у тебя что? — упрекнул его Бабкин. — Тот чихнет и — тебя уже нет. Мы можем всей ячейкой поехать в райком, да будет ли толк? Думаю, миром не обойтись. Для сохранности поезжай в город, там обоснуйся. Там Авдеин тебя не достанет.
— Уехать — значит признать себя виноватым, — не согласился Гурлев. — А я не привычен уходить с поля боя. К тому же хочется вместе со всеми мужиками до настоящей жизни дойти. С должности секретаря ячейки сойду, рядовым партейцем стану работать. Авдеин из партии исключит — пойду выше, не отступлюсь.
Федот посоветовал сейчас же, не медля ни часа, поехать в Калмацкое, еще раз повидаться с Авдеиным, авось отмякнет. Ведь любое наказание партийцу, тем более по ложному доносу, — на пользу только кулачеству. Гурлев не согласился.
Вечером он запряг своего боевого коня в телегу, сказал старухе Лукерье: дескать, содержится Гнедко в конюшне без надобности и пусть покуда другим людям послужит. Вдовой жене Кузьмы Холякова второй конь не понадобился, с одним-то еле справлялась. Привел его Гурлев к Дарье, которая по проворству трем бабам равнялась.
— Ты, Дарена, ни о чем не допытывайся, но прошу мою просьбу уважить, — здороваясь, предупредил он заранее. — У меня один непорядок случился, возможно, отлучусь ненадолго. Гнедко пусть у тебя временно поживет, в домашности пригодится. Да еще: у меня на поле одна десятина пшеницы посеяна. Убери урожай. Пудов двадцать с урожая у себя оставь, потом поделимся, остальное отдай Холяковым. Им своего хлеба не хватит.
Не тому Дарья обрадовалась, что вот и у нее во дворе конь появился, а приходу Гурлева, как к близкому человеку. Бабье чутье вернее глаз. Сразу угадала: к мужику беда подступила.
— А что же, давай! Не мне от добра-то отказываться. Будет Гнедко сыт и ухожен. Урожай не оставлю на поле. Вывезу.
Дородная, сильная, прямодушная, она не умела прикидываться, а если уж дала обещание, то как топором отрубила.
— Вот и партбилет мой припрячь понадежнее…
У Дарьи слезы сверкнули.
— Совсем худо тебе, Павел Иваныч?
— Еще не знаю, но опасаюсь…
Свой партбилет он всегда хранил вместе с партбилетом отца в отдельном бумажнике. Дарья бережно завернула бумажник в чистый платок, расстегнула кофту и спрятала его на груди.
— Не повреди!
— Скорее, сама сломаюсь! Через тебя, Павел Иваныч, я увидела свет. Полюбила! Ну, только моя любовь не такая, в полюбовницы не навелюсь. Зато вернее собаки стану служить.
Гурлева удивило и смутило ее признание.
— Не к месту теперь про любовь.
Дарья утешила:
— Кабы не твоя беда, не стала бы раскрываться. Так будешь знать: не чужому доверился!
В багровом закате догорали прозрачные тучки, остывая, темнело небо. В простенке Дарьиной избы тикали ходики, и казалось, истекает время, кончается пройденный путь, а впереди, в завтрашнем дне только последние версты, закрытые мраком…
Ночь выдалась тихая, прохладная, а в избе Лукерьи стойко держалось тепло, пахло хлебом утренней выпечки.
Гурлев лег спать на полатях, но все равно было зябко. Тревога рассыпала мурашки по телу. Ведь сколь уже пережито, сколь жестокости и несправедливости видано за прошедшие годы, не в новинку и окрики сверху, пора бы привыкнуть, а вот, оказалось, еще не привык. И себя лишь унизил: «На, Авдеин, стреляй!»
А можно ли было сдержаться? Можно ли было позволить Авдеину учинять такую расправу, не считаться с партийной ячейкой, изымать самовольно партийный билет? Для коммуниста партбилет — это судьба! Жизнь! Вера! Наконец, кому и почему поверил Авдеин? Ложному доносу и клевете? При теперешней жизни в деревне все с бою берется. Кулаки, подкулачники, скрытые остатки белогвардейщины и прочие чуждые элементы, вон их сколько, как сорной травы на чистых посевах. Они же в открытую теперь себя не показывают: стреляют из-за угла, из ночной темноты, а где пуля не достанет — клеветой. Очень сомнительно, чтобы Авдеин был таким простачком, не видел и не слышал, как местным партийцам трудно, и если дозволяет себе подобное, непартийное обращение, значит, у него на уме что-то…
Это оказалась унылая и тоскливая мысль, туманное подозрение, не больше! Гурлев попытался его отогнать и взбодриться: дескать, не надо лишнего нагромождать, все прояснится, решится по справедливости и отступит. Однако подозрение в причастности Авдеина к чему-то постороннему и чуждому партии не давало уснуть.
Под утро, когда навалилась дремота, разбудил стук в дверь. В избу вошли два милиционера, предъявили ордер на арест и велели собраться.
Старуха Лукерья перепугалась, запричитала.
Гурлев взял про запас белье, две новые рубахи, попросил у Лукерьи хлеба и сухарей, а на прощание ободрил ее: