Вечный зов. Том I
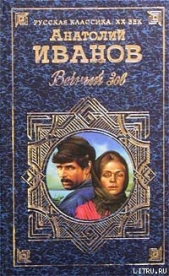
Вечный зов. Том I читать книгу онлайн
Широки и привольны сибирские просторы, под стать им души людей, да и характеры их крепки и безудержны. Уж если они любят, то страстно и глубоко, если ненавидят, то до последнего вздоха. А жизнь постоянно требует от героев «Вечного зова» выбора между любовью и ненавистью…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Так. — И стал в кухне сбрасывать пыльную одежду, — Поставили, значит, и к нам?
— Поставили, значит, — бесстрастно ответила мать.
— А Кирьяну Анфиска сказывала, будто ты сама их привела.
— Привела, значит, — тем же тоном проговорила мать.
— Понятно. Ну, топи баню. Грязный я.
После бани отец молча выпил на кухне несколько стаканов чаю, встал.
— Ну, я обсох. Тесно у вас. Поехал я. На элеваторе поищу попутку. А этих… жильцов… в кладовку переселите. Сёмка, ты глины подвези, печь в кладовке сбейте.
И вышел, тяжело топая в сенцах. Семён спросил у матери:
— Как насчёт кладовки-то? Глины на печь я подвезу…
— Вези, тесно им семерым в одной комнате, — ответила хмуро мать.
Семён помедлил, проговорил осторожно:
— А всё-таки, мама, что-то тебя гложет. Может, я помогу чем?
— Иди-ка ты со своими словами! — зло бросила мать. Но тут же подошла, прижала его голову к своей груди, стала гладить по волосам, как маленького. — Прости меня, Сёмушка. Что меня гложет? Война же, могут взять тебя…
— Если б взяли! Бронь вот надели.
— Ты что болтаешь? Плохо разве, что хоть пока дома?
— А в глаза как людям смотреть? Этой же Марье Фирсовне?
Мать вздохнула и ничего не сказала.
Хорошая она всё же, мама.
…Над Звенигорой только-только засинел край неба. Заморозков ещё не было, но картофельная ботва давно поникла, изжухла, лежала на земле, в полумраке её не было видно. Подсолнухи за баней стояли тёмной высокой стеной и тихо шуршали, точно шептались, хотя ветра не чувствовалось.
Вода была в Громотушке свежей, даже студёной. Семён поплескался вволю, вытерся, на привычном месте нащупал двухпудовую гирю, побаловался с ней. Постелил на траву полотенце, сел и закурил.
— Здорово, Сёмка! — рявкнуло над ухом.
— Чего орёшь, ненормальный?
— А ничего… — И Колька Инютин стал плескаться в воде.
— Ты, гляжу, бесшумно научился через плетень сигать?
— Тренировка. Помидоры вон у соседей всегда раньше всех спеют. А у тех дыньки. Жёлтые, пахучие, хошь, сейчас приволоку? Может, не оборвали ещё…
— Я тебе принесу! Чего не спишь?
— Верка копошится, как чесоточная. А я чуткий. Дай пару раз дёрнуть, а? Я не в себя, так просто…
— На…
Колька потянулся за папиросой, но Семён влепил ему по мокрому лбу звонкий щелчок.
— Ты… чего?
— Ещё хочешь разок затянуться? Курильщик выискался! Губы обрежу.
— Ну и ладно… — обиженно проговорил Колька, сел, засопел. — А ты дурак. Верку-то проворонишь.
— Это почему?
— Потому… Яков Алейников, этот, что со шрамом, из энкаведе-то, свататься недавно к ней приходил.
— Что-о?!
— Вот тебе и что! — со злорадством протянул Колька. И помолчав, начал со смешками рассказывать: — Это просто кино было. Сперва немое. Пришёл он и сел молчком возле стола. Мать побледнела, глядит на него во все глаза, ажно мигать забыла. Верка почему-то зачала рот то открывать, то закрывать, прижалась в угол, точно её кто щекотать собрался. А этот Алейников трёт и трёт свой синий шрам. И молчит, значит… Смехота. Ну а потом звуковое началось. Алейников говорит: «Вы извините… Я, собственно, и потому что — насчёт Веры…» И-их, Верка вскрикнула, точно её и впрямь щекотнуло… А Алейников: «Я, говорит, человек не молодой, конечно, но давно наблюдаю за вашей дочерью…» Это он матери моей. И вот пришёл, говорит, поскольку Вера нравится мне. Ухаживать и всё прочее, как оно делается, я, говорит, не в тех летах, и неудобно, дескать, потому решил прийти сразу и всё обсказать… А вы, говорит, подумайте, я не тороплю с ответом… Гляжу, а у Верки уши краснеют, как соседские помидоры, и щёки раздуваются, распухают на виду. Потом ка-ак она порскнёт в свою комнату! Вот, понял?
— Ну… а дальше? — глухо выдавил Семён.
— А дальше — не знаю. Мать меня вытурила из избы, — с сожалением произнёс Колька. И с прежним злорадством добавил: — С тех пор Верка и закопошилась ночами-то. Понял?
Папироса жгла Семёну пальцы, но он не замечал этого. Сидел и слушал, как журчит Громотушка. А мыслей никаких в голове почему-то не было. Он не мог понять — хорошо или плохо, что к Вере посватался Алейников, рад он или обижен чем-то?
— А не врёшь ты?
— Чего мне… Слушай, а как ты насчёт фронта? На военкома-то Григорьева пожаловался секретарю? Ты же хотел.
— Отстань.
— Чего — отстань? Я тоже пожалуюсь. Он меня тоже из военкомата, паразит, ни с чем выпроводил.
О том, как его «выпроваживали ни с чем» из военкомата, Колька рассказывал часто. Было это через неделю после проводов мобилизованных на фронт. Колька с утра пришёл в военкомат, потолкался в коридоре среди людей и сунул крючковатый нос за обитую зелёной клеёнкой дверь. В комнате за столом сидел человек с глубоко изрытым оспой лицом, с двумя шпалами на петлицах, вокруг стола толпились ещё несколько военных.
— Здрасте, — сказал Колька, пошаркал пальцем под носом. — Я вот пришёл. Кто тут военком Григорьев-то?
— Ну, я, допустим, — сказал человек с двумя шпалами на петлицах.
— Инютин Николай моя фамилия. Я насчёт отправки на фронт. Добровольно. Когда эшелон будет, узнать. И ещё в кавалерию, если можно, записать меня.
— Ясно. Молодец ты, Инютин Николай. Сколько тебе лет?
— Мне-то? Восемна… девятнадцать вот-вот будет. Я рослый.
— Это мы видим. А где живёшь?
Колька сказал.
Григорьев встал, подошёл к нему, положил руку на плечо.
— В общем, ты, Николай, хороший парень. Врёшь вот только здорово, это плохо. А до фронта тебе ещё подрасти годика три-четыре надо. Давай договоримся так — ты получше в школе учись, а я об тебе помнить буду. Договорились?
— Это что же, значит, не берёте? — сообразил Колька.
— Значит, не берём пока. Не детское дело война-то, товарищ Инютин Николай.
— Какой я ребёнок вам?
— Ладно, ладно, договорились ведь. Ступай домой. — И Григорьев легонько подтолкнул Николая к двери.
— Я жаловаться буду, понятно! — пятясь, выкрикивал он. — Я Климу Ворошилову жалобу напишу. Или самому Сталину… Или в райком пожалуюсь.
Последние слова он выкрикивал, стоя уже в коридоре, перед плотно закрытой дверью. С досадой плюнув на затоптанный пол, побрёл домой.
В первое время после этого Колькиному негодованию не было границ.
— Вот ведь паразит какой, недаром корявый. Оспа — она таких злыдней и метит! Года четыре, говорит, подрасти надо. Англомерат проклятый! — кипятился он перед Димкой и Андрейкой.
— А что это такое — англомерат? — спрашивал Андрейка.
— Англомерат-то? Ну, это вообще… — презрительно махал рукой Инютин. — А он даже ещё хуже.
Димка слушал разглагольствования Кольки обычно молча, наклонял большую голову книзу, будто искал что на земле. Только раза два или три он обрывал товарища:
— Заткнись ты. Кавалерист выискался! Придёт время — и без спросу заберут. — И почему-то добавлял всегда: — А то забыл, как райкомовский жеребец тебя звезданул?
Андрейка же дотошно выспрашивал, блестя глазёнками:
— Значит, не поверил, что тебе девятнадцать?
— Не поверил.
— Не детское дело, говорит?
— Говорит.
— Через четыре года, сказал? Так и сказал? — И, колупая в носу, отходил в сторону, о чём-то думал.
А однажды он промолвил:
— Дурак ты, Колька. Григорьева этого спрашиваться… Разве он поймёт! Ночью прицепился к любому поезду — и айда…
— Ч-чего? Как это так?
— А так… Поездов сколь от нашей станции отходит — ужас! Я бегал, глядел. Какой-нибудь и до фронта дойдёт.
Эти Андрейкины слова услышал подошедший Семён, молча взял братишку за ухо.
— Ну-ка, ну-ка, что за разговоры?! Какой поезд? Какой фронт?
Андрейка завизжал, заподпрыгивал от боли.
— Я тебе, пшено такое, покажу фронт! Вот ремень ещё сниму… — И, отпустив Андрейкино ухо, повернулся к Инютину: — А ты брось эти разговорчики! Чтоб я не слышал больше!
Дни шли, Колька всё реже вспоминал о том, как Григорьев выпроводил его из военкомата. Но сегодня в нём, видимо, колыхнулась прежняя обида.


























