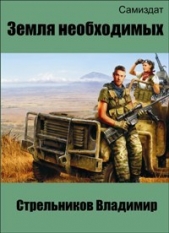Родня

Родня читать книгу онлайн
Новое издание челябинского писателя, автора ряда книг, вышедших в местном и центральных издательствах, объединяет повести «Хемет и Каромцев», «Вечером в испанском доме», «Холостяк», «Дочь Сазоновой», а также рассказы: «Фининспектор и дедушка», «Соседи», «Печная работа», «Родня» и другие.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Когда умерла мать, он, говорят, поклялся моему отцу не шить больше и не шил очень долго — он боялся, что отец заберет нас и уйдет из дома.
После этого дедушка свихнулся было совсем, и обстановка в доме стала напряженной: когда он шил шапки, жизнь его наполнялась содержанием, он помнил и о десятках других дел, о которых должен помнить хозяин дома. А когда он не шил шапок, то ходил по дому и двору равнодушно, погруженный в изжигающую его тоску.
…Гнев отца, когда он застал меня, придя с работы, исплаканного, перепачканного в крови и марганцовке, был, конечно, сильным. Он тут же стал собирать вещи, чтобы навсегда покинуть дедовский дом. Собрав кое-что, он сел возле меня. Дедушка стал в дверях и глухо сказал:
— Я перестану шить шапки… Я клянусь…
Отец устало ему ответил:
— Лучше бы ты не делал этого, а шил бы шапки.
Я лежал и думал: когда же мы уйдем? Но отец сидел неподвижно, его гнев, видно, пропал, но лицо не приобрело еще иного устойчивого выражения и казалось то жалобным, то смешливым.
— Я клянусь, — повторил дедушка. Он стоял не то чтобы пошатываясь, а как-то все кренясь к притолоке, пока, наконец, не оперся о нее всем туловищем.
— Он больше не будет, — робко сказал я.
Отец мне не ответил. Он, пожалуй, не спешил принять клятву дедушки и не очень-то хотел уходить.
А дедушка был испуган: дом, в котором родилась его дочь, его внуки и должны были родиться дети внуков, — этот крепкий дом, данный ему как награда за его умение и труд, терял свой смысл, когда бы его покинули зять и внуки. И он клялся отцу, что не возьмет больше иглу в руки…
Он никогда, говорят, лошадником не был, но тут он купил лошадь, может, чтобы подчеркнуть свою самостоятельность — он обещал не шить, он сдался, но сдаться окончательно он не мог.
…Итак, дедушка говорит мне: «Смотри», — и смотрит сам на привязанную под окном лошадь, он смотрит вроде бы с легким удивлением, будто это чужая причуда, но я-то знаю, что лошадь наша, и прошу:
— Запряги лошадку.
Он решительно поворачивает свое легкое мускулистое тело и выходит из комнаты. Меня одевают потеплей, выводят за руки и сажают в ходок. Ворота распахнуты.
Куда мы едем? А куда бы мог поехать я, пятилетний мальчишка, сладко содрогающийся от любви к лошадям, куда, в какую осознанную, наполненную житейским смыслом поездку мог бы я пуститься? Да ни в какую, просто ехать, признавая притягательность белой, уходящей в белую даль дороги, просто переживать движение и только воображением рождать цель и смысл езды. Мне и тогда и теперь кажется, что с дедушкой мы были сходны в бесцельности наших поездок в степь, и в воображаемом сходны — и ему и мне рисовалось что-то неосуществимое, но с той разницей, что мое воображение награждало меня радостью, а его скорее всего печалью.
Он и без меня уезжал — один. Проснувшись однажды утром, я не застал его и спросил:
— А куда поехал дедушка?
— На ярмарку, — отвечала бабушка.
Я не умел уловить иронии и сострадания в ее голосе; и ярмарка виделась мне просто степью, полной зеленого и синего света, ветра, шевелящего ковыль.
Он возвращался с подарками: извлекал из объемистого кожаного саквояжа хлеб, пачки чая, кусковой сахар — это по столу придвигал бабушке, мне — пряники или петушка на палочке. Я ликовал не оттого только, что получал сладости, но и потому, что чувствовал себя причастным к некоему обязательному ритуалу, который был бы, наверно, неполон без меня.
Потом я понял, что, купив лошадь и не зная, что с нею делать, дедушка, однако, нашел ей применение: это была игра — будто бы он, поработав, возвращается с ярмарки и везет подарки…
Я носил теперь длинные брюки, как у дяди Ахмеда, но сам дядя Ахмед был одет не в широкие, со стрелками брюки, а в галифе.
Через некоторое время дядя Ахмед отправился вместе с другими конниками на фронт, вскоре ушел и отец, а дедушка продал лошадь.
Дедушка запрягал ее в последний раз (в стороне стоял цыган, высоко задрав бороду, и борода его оскорбляла меня — будто он будет целовать нашу лошадь и щекотать ее черной жесткой бородой), он запрягал ее не торопясь, с нежностью, словно растягивал удовольствие, состоящее в том, что он запрягает ее в последний раз. Лошадь ласково глянула на меня…
Потом я долго бежал за телегой по хлопающей под ногами пыли и слышал возгласы с тротуаров: «Мальчишка-то шапочника, гляди!..», «Что, дедушка продал лошадь?» А когда цыган выехал за город, я отстал и, подняв камень с дороги, бросил его, желая, чтобы камень угодил в цыгана, и боясь, что он попадет в лошадь.
А когда я вернулся домой, где наверняка должна была царить печаль, я увидел, что дедушка сидит на полу, а против него расставлены колодки, разложены молоточки и деревянные колотушки, и рядом лежит пыльная подушечка, с воткнутыми в нее разнокалиберными иголками.
— Ты будешь шить шапки? — спросила бабушка.
Он презрительно поглядел на нее.
— Ты слышала, что говорил зять, когда уходил? Он сказал: «Побереги мальчишек». Может, он тебе это сказал?
С тех пор дедушка опять стал гордым, даже величавым.
Вот невозмутимо шагает он возле таратайки с вихляющимися, постыдно скрипящими колесами и помахивает взлохмаченными веревочными вожжами над худым крупом карликовой коровы Маньки. Прежде, то есть до того, как началась война и Маньку впрягли в таратайку, она, говорят, была достойной коровой.
Дедушка помахивает веревочными вожжами, а встречный народ хохочет, видя карликовую коровенку с рожками, как две перевернутые запятые, и дедушку рядом с нею — невозмутимого, недосягаемого для смешков и колкостей.
Возможно, он и не слышал насмешек, и не замечал зевак. Мыслями он, скорей всего, был дома, в той заветной комнатке, в которой прежде была наша с братом спальня, а теперь он там работал.
Он блаженствовал в кропотливом, изнурительном труде, при свете керосиновой лампы, в комнатке, пропахшей кислым запахом овчины и густым махорочным дымом.
Вот он раскинул перед собой сукно, мягко потрепал его. В эти минуты движения дедушки были такие, будто он ласкал меня или брата, но не так, как ласкал он меня сонного или прихворнувшего, — по сукну можно было крепко хлопнуть рукой и так же крепко погладить.
И — в руке у него появляется мелок (он изящен, как игрушка, отточен скольжением по сукну), дедушка, чуть откинувшись назад, размечает что-то по сукну. Когда пролегли уже по темному прямые, точные линии, он берет в руку большие, громоздкие ножницы и начинает резать материал — в комнате стоит тишина, только слышно, как ножницы издают мерные журчащие звуки, — он режет, склонившись низко, будто приникает ухом к этому ладному тихому журчанию… Потом он садится за швейную машинку и сшивает то, что нарезал из сукна, — стрекочет машинка, а он скользящими короткими движениями вводит под этот стрекот сукно, а ногою давит и давит на педаль, как если бы он слушал гармонику и притопывал в такт ногой, все более возбуждаясь, подчиняясь ритму мелодии.
Машинка умолкает, нога дедушки чуть заметно притопывает еще, хотя он и убрал ее с педали, его лицо, руки, глаза уже отрешены от работы, но не той — навсегда — отрешенностью, а сознанием, что он очень скоро вернется к ней опять. Бабушка несет ему еду, ставит ее на табуретку перед ним, он ест медленно, вроде бы поглощенно, но ест он не плотно, только бульон и пиалку крепкого несладкого чая, — ест медленно, но заканчивает обед быстро… Теперь в руке дедушки игла. Он будто выпускает ее, стремительную, неуловимую, из руки и ловит точно и безошибочно; и так сильно и стремительно блистание иглы, и так она истончается в изящном, неуклонном — все быстрее, быстрее — мелькании, что кажется, исчезнет, истает, как истаивает солнечный лучик, проникший в щель сарая. Пока смотришь на иглу, не слышно ни звука. Но если отвести глаза, можно услышать шорох, когда игла соприкасается с сукном и овчиной.
А утром, когда вынуты из печи просохшие шапки, когда он снимает их с колодок, он уже не тот — он очень спокоен, но не так воодушевлен и порывист, как вчера; он, верно, понимает, что мог вчера погорячиться и сделать что-то не так, и строго, беспощадно ищет свою оплошность. Он берет железный гребешок с острыми, как иголки, частыми зубьями и медленно вычесывает овчинные ушки и козырьки, затем легкими блестящими, как у парикмахера, ножницами подстригает и выравнивает шерстинки. Потом он кладет шапки в ряд на лавке и стоит над ними, глядя, как на внучат, не то ласково, не то гордо, не то с укоризной, не то с горечью.

![Город маленький [СИ]](/uploads/posts/books/124807/124807.jpg)