Дом учителя
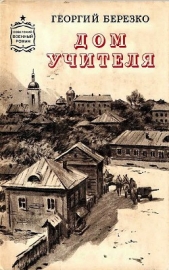
Дом учителя читать книгу онлайн
Мирно и спокойно текла жизнь сестер Синельниковых, гостеприимных и приветливых хозяек районного Дома учителя, расположенного на окраине небольшого городка где-то на границе Московской и Смоленской областей. Но вот грянула война, подошла осень 1941 года. Враг рвется к столице нашей Родины — Москве, и городок становится местом ожесточенных осенне-зимних боев 1941–1942 годов.
Герои книги — солдаты и командиры Красной Армии, учителя и школьники, партизаны — люди разных возрастов и профессий, сплотившиеся в едином патриотическом порыве. Большое место в романе занимает тема братства трудящихся разных стран в борьбе за будущее человечества.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Еще один знакомый товарищ — городской судья, тоже член райкома, незаметно возник подле Самосуда. Смятая фетровая шляпа косо сидела на голове, лицо, руки, пальто были измазаны сажей.
— Разгребали завал, живым не нашли никого… — проговорил судья. — Тут недалеко — по Преображенской, дом семь. Мать и трое детей… — И он зашелся в рвущем бронхи кашле — наглотался дыма.
Давясь кашлем, он отрывисто, выбрасывая слово за словом, рассказал, что все, кто собрался утром в помещении райкома, погибли в начале бомбежки: фугаски разрушили здание, пробили перекрытия, разорвались в убежище… Сам он уцелел лишь потому, что за несколько минут до налета вышел на площадь — надумал заглянуть к себе в суд — и уже не вернулся в райком, укрылся в земляной щели.
— Такие дела, отцы! — проговорил он и опять закашлялся.
— Наш дом тоже… — подал голос Аристархов. — Я вроде преподобного Иова теперь: что на мне, то и осталось… Жалко библиотеки, хорошая была библиотека.
— Да… да, пошли… — Только теперь Сергей Алексеевич ответил военкому… Они и в самом деле были бессильны здесь, но надо было немедля что-то предпринимать, надо было действовать, действовать!.. А прежде всего сообща подумать. И Самосуд повел обоих райкомовцев — комиссара и судью — в Дом учителя.
Четвертый участник заседания, председатель райпрофсовета товарищ Солнышкин, присоединился к ним по дороге… Этот в расцвете сил тридцатилетний человек успел уже, как знали в городе, обзавестись большим семейством: четверо сыновей-погодков росло у него; был он всегда весел, жизнерадостен, и то, что происходило с ним сейчас, поразило Сергея Алексеевича. Солнышкин одиноко, на выходе с площади, стоял лицом к стене и странно подергивался, голова его тряслась. Когда к нему подошли и он обернулся, стало видно, что он рыдал: мокрое в потеках слез лицо его искривила гримаса.
— А-а… — хватая губами воздух, выговорил он. — Ни-и-чего… Теперь все… прошло… А вы… то-тоже на заседание… Я немного опоздал… Живу далеко.
Он глотал невылившиеся слезы, гримасничал и отворачивался.
— Все мои еще в городе… Пневмония у младшего… в тяжелой форме, — вздрагивающим голосом ответил он на вопрос Самосуда о семье. — И везти нельзя, и оставить нельзя… Так и сидит жена на узлах… ждет, когда спадет у Вовки температура.
Чтобы убедить товарищей, что он, Солнышкин, в полном порядке, он даже попытался улыбнуться: вот, мол, какой казус получился, — как бы хотел добавить: неприятно, конечно, но не столь уж важно по нынешнему времени.
— Сама не спит все ночи — мать, вы же понимаете, — выдавил из себя Солнышкин с этой своей улыбкой на кривящихся губах.
…Заседание, последнее, по всей вероятности, перед уходом в подполье, затянулось — да и не могло быть иначе. Четверо его участников, членов вновь образованного на нем подпольного райкома, не знали точно, где и когда они смогут опять собраться, а дел, нуждавшихся в общей договоренности, было не перечесть.
— Маловато нас здесь, коммунистов, — так начал Самосуд, когда они остались одни и в коридоре затихли шаги Ольги Александровны, приведшей их сюда. — Но сколько бы нас ни было… сколько бы ни было…
Что-то помешало ему продолжать, и он мысленно прикрикнул на себя: «Возьми себя в руки, ты же большевик, черт тебя подери!»
— Мы — коммунисты, и на нас ответственность… За все, что мы видели сегодня, тоже мы отвечаем… Кто же еще?! — проговорил он. — Но об этом потом, потом… когда сломаем хребет зверю… когда… — Сергей Алексеевич встал со стула, кровь хлынула ему в лицо, гладкий череп порозовел. — А пока надо уходить в подполье… Всем! Надо работать!
Он опять сел и сложил на столе руки, кисть на кисть.
— Что же это такое — подполье, нелегальное положение? На своей советской земле, в родных местах — и нелегальное… — он странно, недобро усмехнулся. — Я кое-что помню еще о времени, когда мы конспирировались, а жандармы охотились за нами. Но вот наш судья, товарищ Виноградов, — человек молодой… Или вы, товарищ Солнышкин… Да… семья Павла Васильевича эвакуировалась, не знаете? — перебил он себя.
Судья утвердительно кивнул.
— Уехали, — ответил он, — вместе со всеми. А к Хорошевой Клавдии Савельевне (это была жена, а ныне уже вдова второго секретаря) я зайду, обязательно!.. Она в городе.
Самосуд словно бы вдруг задумался… Он многие годы работал с этими, погибшими сегодня людьми, и они вставали в его памяти — тогда он замолкал.
— Так вот, — заговорил он вновь с усилием, хмуро, — товарищи Солнышкин и Виноградов, я подозреваю, что обоим вам не совсем ясно, чего потребует от вас нелегальное положение… Возможно, и под чужим именем, и по чужому паспорту, и в разрыве со своими близкими…
Самосуд взглянул на Солнышкина; тот ссутулился, прикрыв рукой свои вспухшие глаза.
— Это, дорогие товарищи, нелегко… Это, во-первых, самодисциплина, постоянная собранность, во-вторых, внимание к мелочам. И великое терпение… — Сергею Алексеевичу удалось наконец переступить через некое внутреннее препятствие, и его потрескивающий голос звучал теперь по-учительски ровно, как на уроке. — Может найтись предатель, провокатор, который выдаст вас врагу, такое случалось еще во времена Понтия Пилата. И тогда… тогда, товарищ Солнышкин, только одно сознание, что вы умираете за правое дело, может помочь вам. Но бывает, что и этого сознания недостаточно…
— Почему вы обращаетесь ко мне? — быстро, нервно спросил Солнышкин. — Я не понимаю… Я, кажется, не давал повода думать, что я… ну, словом, что я трушу.
Сергей Алексеевич сделал вид, что не обратил внимания на его протест.
— Хорошо ли каждый из вас знает самого себя?.. — спросил он. — Быть коммунистом в стране, в которой победили коммунисты, это не самое трудное. Потруднее остаться коммунистом там, где по одному лишь подозрению в принадлежности к партии коммунистов человека обрекают на пытки и смерть. Имейте в виду, может статься и так, что никто: ни ваши родные, ни жена, ни дети — никогда и не узнает о вашем подвиге. Одна лишь ваша совесть будет вашим утешением… или вашим прокурором, если проявите малодушие.
Сергею Алексеевичу было жалко Солнышкина — они довольно часто встречались в райкоме, и ему сделался симпатичен этот в недавнем прошлом рабочий парень в потертом костюме — большая семья и не такой уж большой достаток, — неглупый, начитанный, толково выступавший в местной газете. И эта непрошеная жалость так и проявлялась у Самосуда — в сухости тона, в жесткости формулировок, она была слишком несвоевременной. Если б Солнышкин честно признался, что он боится той безымянной, безжалостной борьбы, о которой шла речь, если б он взмолился: увольте! — Сергей Алексеевич почувствовал бы облегчение: пусть бы уходил к своим детишкам. Да и для дела это, наверно, было бы полезнее.
А сам Солнышкин перестал уже слушать Самосуда, мысленно он обратился сейчас к своему прощанию с семьей, с женой и сыновьями, которых покинул в бомбоубежище, на их улице. Там, в подвале, под зданием городской аптеки, был полный мрак, пахнувший йодоформом, люди передвигались ощупью, натыкались друг на друга. И он не видел лица жены, когда сказал ей, что, возможно, не вернется домой ни сегодня, ни в ближайшие дни, что, может быть, они расстаются надолго. Но на его губах осталась намять об ее поцелуе — расслабленном, прерывистом, похожем на детский. И на своем лице он все еще чувствовал влажный жар, опахнувший его, когда он прикоснулся щекой к шелковисто-гладкой щеке младшего сына…
«Потеет, а температура не падает», — с грустью подумал он сейчас.
— Словом, товарищи, еще не поздно… — сухо проговорил Самосуд. — Тот, кто не уверен в себе, может еще уйти, мы не станем его удерживать и даже не осудим… Не каждый способен выдержать то, что его ожидает в случае провала.
— Да уж, если начнут эсэсовцы иголки под ногти вгонять… — сказал судья, и в его тоне была необъяснимая усмешка.
— Что? — спросил Солнышкин, оторвавшись от своего воспоминания, и обвел всех взглядом.
— Тот, кто не уверен в себе, может еще уйти, — повторил Самосуд, глядя на него. — И это надо сделать немедленно.


























