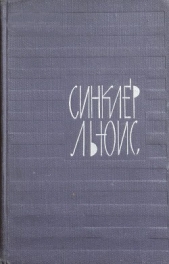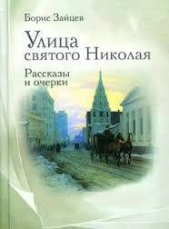Арбат, режимная улица
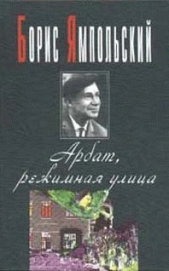
Арбат, режимная улица читать книгу онлайн
Творчество Бориса Ямпольского незаслуженно замалчивалось при его жизни. Опубликована едва ли четвертая часть его богатого литературного наследия, многие произведения считаются безвозвратно утерянными. В чем причина? И в пресловутом «пятом пункте», и в живом, свободном, богатом метафорами языке, не вписывающемся в рамки официального «новояза», а главное — в явном нежелании «к штыку приравнять перо». Простые люди, их повседневные заботы, радости и печали, незамысловатый быт были ближе и роднее писателю, чем «будни великих строек». В расширенное по сравнению с печатным электронное издание вошли очерки писателя и очерк Владимира Приходько о самом Борисе Ямпольском.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мадам Канарейка долго еще о чем-то говорила, но я ничего не слышал: непонятный Попандопуло носился передо мной со своими греческими усами и грозил мне за то, что я задал еврейский вопрос.
— Скажи: ку-ку-ру-за! — сказал вдруг старичок с мухой.
— Кукуруза.
Все засмеялись, даже господин Канарейка, уже разрезавший поросенка, улыбнулся.
— А ну, а ну, скажи еще раз! — воскликнула мадам Канарейка, и на глазах ее появились слезы смеха. — Боже! — обратилась она снова к еврейскому Богу. — Что это у них, евреев, такое в горле, что они не умеют даже сказать „кукуруза"!
— Ах, эти евреи! — сказал мосье Франсуа, хотя по черным глазкам его, по выгнутому носу видно было, что и он еврей, но весь его вид говорил, что у него случайно черные глазки, случайно выгнутый нос.
— Как по-вашему, — спросила мадам Канарейка, — если бы поручик Беребендовский услышал бы это, он бы умер?
— Конечно умер, — ответил старичок. — Вы еще спрашиваете?
— Боже, — проговорила она, закрывая глаза, — я себе представляю эту картину.
И старичок тоже закрыл глаза, тоже переживая эту картину, но сейчас же открыл их и посмотрел: цел ли еще поросенок, не съела ли его бабушка, пока он закрывал глаза. Но, открыв глаза, он только увидел на своем носу муху.
Эта муха, которая на самом деле не была мухой, сидела на самом кончике носа; старичок, на что бы ни смотрел, всегда видел муху и всегда все преувеличивал.
Вдруг он заметил у меня прыщик и воскликнул:
— А не нарыв ли у тебя?
— А он не заразный? — испугалась мадам Канарейка.
— Конечно заразный! — воскликнул старичок, глядя, на какие куски — большие или маленькие — Канарейка делит поросенка.
— Опасно заразный! — радостно проговорил он, увидев, что ему достался большой кусок, и поспешно стал есть.
— Дети, он вас заразит! — пролепетала мадам Канарейка, заедая испуг вареньем и запивая чаем.
Она отхлебнула чай и вдруг схватилась за грудь, будто ей всадили иглу в сердце. Дело в том, что весь чайный прибор — и чайник, и чашечки, и блюдечки были с изображением птиц с синими клювами. У Гоги и Моги — маленькие птицы, у старичка — побольше, а у мосье Франсуа — самая большая птица, но все с синими клювами. И вдруг мадам Канарейка увидела, что на чашке, из которой она пьет, птица — с зеленым клювом.
— Я что-то вижу… — прошептала она. — Чай горький…
И старичок проверил: не зеленый ли клюв и на его чашке? И отхлебнул чай: сладкий ли? И только тогда успокоился.
А за столом уже шло обсуждение: что можно от меня подцепить и как можно вылечиться. Высказывались самые ужасные подозрения: нет ли у меня глистов, и не едят ли меня черви, не пьют ли они мою кровь? И бабушка в чепце с лиловыми лентами советовала подвесить меня за ноги и подставить ко рту чашку с горячим молоком — черви сейчас же вылезут.
Каждый хотел найти у меня такую болезнь, которой он сам болеет, находил ее и после этого чувствовал облегчение, словно половину болезни передал мне.
— А не заикается ли он? — говорили они и ели поросенка. — Или, может быть, наоборот — у него пулеметность?
— А может, у него заячья губа?
В суматохе кто-то даже предположил у меня размягченность мозга, и, увидев в углу человечка с лысой головой цвета зеленого помидора, с тоской жующего поросячью челюсть, я понял, кто это предположил.
— Все возможно, — шептала мадам Канарейка, — у такого мальчика из Иерусалимки все возможно…
И уже все, кто ел и молчал, бросили есть и, угождая мадам Канарейке, увивались вокруг меня, чтобы хоть что-нибудь еще найти — прыщик какой.
Старичок протиснулся ко мне, уверяя, что знает все болезни и по одному пятнышку откроет болезнь, и не только ее, но и те, что тянутся за нею. Его опередил горбун, оттолкнувший старичка и вставший передо мной.
Вьюном он вился вокруг меня, таща за собой горб, все оглядывая, все высматривая.
И наконец нашел: он увидел пятнышко, нежное черное пятнышко, какое было и у матери моей на том месте, где шея переходит в грудь, — мать передала его мне.
— А-а, — засмеялся он. — Вот же оно! Я же знал. — И ногтем пытался сковырнуть пятнышко, чтобы всем показать.
И все окружили меня и смотрели: какое это пятнышко, как оно могло очутиться на мне, и хотели немедленно знать, какие болезни оно с собой несет.
— А что, если б и это пятнышко увидела графиня Браницкая? — сказал старичок с мухой и, увидев, что мадам Канарейка побледнела, стал потирать ручки от удовольствия.
Я стоял среди них, в золотых эполетиках и лаковых сапожках, сковавших мои ноги.
— Вот так, вот так! — говорили они, поворачивая меня и осматривая, напудренные, растрепанные, хитрые рожи. Пискливый скопец и тот толкался, и тот хотел сказать свое.
Но горбун громче всех кричал, злее всех придумывал.
Искра в нем горела.
Он с Богом рассчитывался за горб, за синие очки, закрывшие все его лицо. И особенно мстил он за душу, что вложил в него Бог, — душу злобную и завистливую, что горела в нем, спать не давала, дыхание теснила.
Никто не находил у меня столько болезней, как он.
Одно слово перегоняло другое и все злее, все ехиднее. Горбатый, он до того увлекся, что даже выпрямил спину.
И так он мне надоел, до того въелся в душу, столько раз лазил мне в уши, что я, изловчившись, плюнул ему в рот, который он раскрыл, чтобы еще наврать.
Все закричали, что я убил его, что я сломал его очки, что они уже не синие, а белые.
Даже бабушка, не та бабушка, что с лиловыми лентами, точно приодевшаяся к смерти, а та, что лежала за занавеской и которой уже надоело носить ленты в ожидании смерти: из тех бабушек, что заживаются дольше, чем земля их может вынести и дети могут вытерпеть, и которые с каждым днем кушают все больше, чмокают все громче и давно уже перестали кряхтеть, а, наоборот, иногда даже хихикают, и всем начинает казаться, что они никогда не умрут, — так вот даже и эта бабушка, уже лет двадцать пять не молвившая ни одного слова, там у себя за занавеской вдруг спросила:
— А он не отравит меня? — И голос точно из могилы.
Все вздрогнули, а бабушка с лиловыми лентами вся затряслась, будто смерть пролетела над ней.
Даже младенец в люльке под кружевным одеяльцем, разглядывавший колыхавшийся над ним красный шар, и тот вдруг закричал: „Уа-уа!", словно предупреждал, что я — кровопийца. И все именно поняли это как предупреждение, как пророческий голос из люльки, и говорили: „Даже ребенок почувствовал!"
— Если бы надо было поджечь дом, он бы мог, как вы думаете, он бы мог? — добивалась мадам Канарейка.
— Вы еще спрашиваете! — закричал через весь стол старичок с мухой и побежал с блюдечком. — Мадам Канарейка, дайте мне вот этот кусок с лимонным кремом.
И мадам Канарейка дала ему кусок с лимонным кремом и еще прибавила кусок с шоколадным кремом — за ответ, и старичок побежал назад, поглядывая на блюдечко и прижимая его к себе.
Гога прошелся раскорякой, показывая, как я хожу, а Мога прокартавил, показывая, как я говорю. И хотя Гога прошелся так, как всегда ходил, а Мога говорил так, как всегда говорил, но получилось, что это я так хожу и говорю, и все смеялись не над ними, а надо мной.
Мосье Франсуа сказал, что Гога и Мога будут министрами, у них министерские головы.
Они не останавливались, они не хотели останавливаться. Дураки они были бы — лишиться такого удовольствия! Они продолжали врать, глядя мне прямо в глаза, ничуть не стыдясь.
— Он, наверное, выкидыш, — решили они. И на этом сошлись.
Тетка умирала от несправедливости. Но когда они уже особенно увлеклись и, забываясь, кричали, что все это по наследству, она не выдержала и заскрежетала зубами.
Гости переглянулись и перетрусили. И тут же, краснея и торопясь, стали меня расхваливать.
Моментально оказалось, что я совсем не такой, каким меня хотели представить: и я — тихий, и вежливый, и не заразный, и кто-то даже нашел у меня молочный цвет лица.
— На тебе грушу! — сказала мадам Канарейка. — Но ты знаешь, как надо есть грушу? Ее надо держать вот так: за хвостик и не болтать перед ртом. На, покажи! — и дала мне редьку.