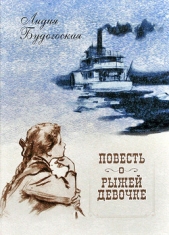Том 5. Белеет парус одинокий

Том 5. Белеет парус одинокий читать книгу онлайн
В пятый том собрания сочинений Валентина Катаева вошли две первые части тетралогии «Волны Черного моря»: «Белеет парус одинокий» и «Хуторок в степи».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В гимназии было так же темно и траурно, как и на улице. Никто не шумел, не бегал по лестницам. Разговаривали вполголоса, как в церкви на панихиде. На перемене Петя и Жора Колесничук, который из маленького гимназистика уже вымахал в громадного, застенчивого юношу с прыщами на лбу и красными руками, сидели на подоконнике, и Колесничук испуганным шепотом рассказывал о том, что на оптовом складе мануфактурного магазина братьев Пташниковых, где его отец служил приказчиком, забастовали рабочие и повесили на воротах портрет Льва Толстого. Ученики старших классов — семиклассники и восьмиклассники — собирались кучками на лестничных площадках и внизу, возле швейцарской. Они тайно шуршали газетами, которые вообще строго запрещалось приносить в гимназию. Уроки тянулись чинно, тихо, с однообразием, сводящим с ума. Часто в стеклянную дверь класса заглядывал инспектор или кто-нибудь из надзирателей. На их лицах было написано одно и то же выражение холодной бдительности. И Петя чувствовал, что весь этот привычный мир казенной гимназии, с форменными вицмундирами и сюртуками педагогов, с голубыми стоячими воротниками служителей, с тишиной коридоров, где так четко и звонко раздаются по метлахским плиткам шаги инспектора в новых ботинках с твердыми каблуками, с чуть слышным запахом ладана на четвертом этаже, возле резных дубовых дверей гимназической церкви, с редкими звонками телефона внизу, в канцелярии, и тонким дребезжаньем пробирок в физическом кабинете, — весь этот мир находится в тяжелом противоречии с тем великим и страшным, что, по мнению Пети, должно было сейчас происходить за стенами гимназии, в городе, в России, на всей земле.
Что же там происходило?
Петя время от времени смотрел в окно, но ничего не видел, кроме хорошо знакомой, надоевшей картины привокзального района. Он видел мокрую крышу красивого здания судебных установлений с фигурой слепой Фемиды на фронтоне. Видел купола Пантелеймоновского подворья, каланчу Александровского участка. Еще дальше висела пасмурная, дождливая муть рабочих предместий. Там были фабричные трубы, и дым, и пакгаузы, и та особая, свинцовая темнота горизонта, которая напоминала Пете что-то давнее, чего он никак не мог вспомнить. И лишь когда после уроков Петя вышел в город, он вдруг вспомнил.
Наступал ранний вечер. Уже кое-где в мелочных лавочках зажигали керосиновые лампы. Желтый свет жиденько блестел на мокрой мостовой. Мелькали призрачные тени прохожих, увеличенные туманом. И вдруг послышалось пение. Из-за угла медленно выходила ряд за рядом толпа людей, державших друг друга под руки. Впереди, прижимая к груди портрет Льва Толстого в черной раме, шел студент без шапки, и мокрый ветер трепал его русые волосы. «Вы жертвою пали в борьбе роковой», — выводил студент вызывающим тенором, покрывая нестройные голоса толпы. И этот студент, и эта ноющая толпа вдруг с необыкновенной силой воскресили в Петиной памяти другое, забытое время, другую, забытую улицу. Так же как тогда, в тумане блестела мостовая и по ней, взявшись под руки, ряд за рядом шли курсистки в маленьких каракулевых шапочках, студенты, мастеровые в сапогах. Они пели «Вы жертвою пали». Над толпой взвивался маленький красный лоскут, и это был Пятый год… И как бы в довершение сходства Петя услышал щелканье подков, высекающих из мокрого гранита мостовой искры. Казачий разъезд вырвался из переулка — бескозырки набекрень, короткие драгунские винтовки прыгают за спинами, — совсем близко от Пети свистнула нагайка и сильно запахло лошадиным потом. И тотчас все смешалось, закричало, побежало…
Схватившись обеими руками за фуражку, Петя бросился в сторону, наткнулся на что-то горячее. Оно опрокинулось. Это была жаровня возле фруктовой лавочки. Посыпались раскаленные уголья, дымящиеся каштаны. И улица опустела.
Несколько дней смерть Толстого составляла главное и единственное содержание жизни всего русского общества. Экстренные выпуски газет были заполнены подробностями ухода Льва Николаевича из Ясной Поляны. Печатались сотни телеграмм со станции Астапово о последних часах и минутах великого писателя. В один миг маленькая, неизвестная станция Астапово прогремела на весь мир и стала так же знаменита, как Ясная Поляна, а фамилия начальника этой станции, некоего Озолина, уступившего умирающему Толстому свою квартиру, бесконечное число раз повторялась всеми грамотными людьми. Вместе с именами графини Софьи Андреевны и Черткова эти новые слова — «Астапово» и «Озолин», — сопровождавшие Толстого в могилу, пугали Петю, как черные бумажные буквы на белых лентах погребальных венков.
Петя с удивлением замечал, что к этой смерти, которую все называли «трагедия», имело какое-то отношение правительство, святейший синод, полиция, жандармский корпус. В эти дни если Петя встречал на улице архиерейскую карету с монахом возле кучера на козлах или трескучие щегольские дрожки полицмейстера, то он был уверен, что и архиерей и полицмейстер едут куда-то по срочному делу, связанному со смертью Толстого.
Никогда еще Петя не видел своего отца в таком не то чтобы возбужденном, а в каком-то возвышенно-одухотворенном состоянии, как в эти дни. Его обычно доброе, простодушное лицо вдруг стало строгим, помолодевшим. Волосы над высоким лепным лбом были закинуты как-то по-студенчески. И только в старых, покрасневших глазах, полных слез, под стеклами пенсне отражалось такое глубокое горе, что у Пети невольно сжималось от жалости сердце. Василий Петрович вошел и положил на письменный стол две стопки ученических тетрадок, крепко перевязанных шпагатом. Прежде чем переодеться в домашний пиджачок, он вынул из заднего кармана сюртука с потертыми шелковыми лацканами носовой платок и долго обтирал мокрые от дождя лицо и бороду. Потом решительно тряхнул головой:
— Ну, мальчики, мыть руки и обедать!
Петя глубоко чувствовал душевное состояние отца, он понимал, что Василий Петрович как-то особенно мучительно переживает смерть Толстого, что для него Толстой не только обожаемый писатель, но нечто гораздо большее — чуть ли не нравственный центр жизни, — но только не мог объяснить это словами.
Настроение отца всегда легко передавалось мальчику, и теперь Петя был весь охвачен сильным душевным беспокойством. Он притих и не спускал с отца блестящих вопросительных глаз.
Павлик же, которому недавно исполнилось восемь лет я он уже был гимназистом, ничего этого не знал и не замечал, исключительно занятый первыми впечатлениями гимназии, интересами своего приготовительного класса.
— А у нас сегодня на уроке чистописания была обструкция! — сказал он, с видимым наслаждением выговаривая это слово. — «Шкелет» несправедливо удалил из класса одного мальчика — Кольку Шапошникова, — и мы все незаметно мычали с закрытыми ртами до тех пор, пока «Шкелет» так стукнул кулаком по кафедре, что чернильница подпрыгнула аж на два аршина вверх.
— Перестань, как не стыдно… — сказал отец, страдальчески морщась, и вдруг гневно вспыхнул: — Бессердечные мальчишки, драть вас надо! Как вы смеете издеваться над несчастным, больным педагогом, которому, может быть, и жить-то осталось… Откуда… откуда у вас у всех такое зверство?.. — И, вероятно продолжая отвечать на мысли, которые мучили его все эти дни, прибавил: — Поймите же, что мир не может держаться на ненависти! Это противоречит христианству… наконец, здравому смыслу. И это в те дни, когда опускают в могилу, может быть, последнего настоящего христианина на земле…
Глаза отца покраснели еще больше, он вдруг улыбнулся слабой, просительной улыбкой и, взяв за плечи мальчиков, поочередно заглянул им в лицо:
— Обещайте мне, что вы никогда не будете мучить своих ближних!
— Я не мучил, — смущенно сказал Петя.
А у Павлика жалобно сморщилось лицо, и он прижался своей остриженной под нуль головой к отцовскому сюртуку, от которого пахло утюгом и немножко нафталином.
— Папочка, я больше никогда не буду… Мы не подумали, — сказал он, вытирая кулаками глаза, и всхлипнул.
2. «Шкелет»
— Нет, как хотите, а это ужасно! — сказала за обедом тетя. Она положила разливательную ложку и схватилась пальцами за виски. — Можно относиться к Толстому как угодно, лично я его признаю только как величайшего художника, а все эти его непротивления и: вегетарианства — вздор, но то, что делает русское правительство, — стыд и срам. Позор перед всем миром! Такой же позор, как Порт-Артур, как Цусима, как Девятое января.