Вьюжной ночью
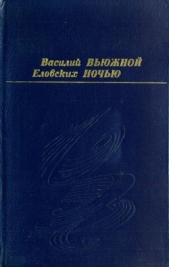
Вьюжной ночью читать книгу онлайн
В новую книгу старейшего писателя Зауралья вошли рассказы о тружениках деревни, о героизме советских воинов в годы Великой Отечественной войны. Повесть «Трубы над горами» посвящена подросткам. Доброе видение мира, умение найти в человеке хорошее — таковы отличительные черты авторского взгляда на жизнь.
Часть произведений, вошедших в сборник, ранее увидела свет в издательстве «Советский писатель».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Нехорошо, Саша. Оч-чень не-хо-ро-шо!
Учительница еще молода, только-только исполнился двадцать один год. Приехала в Боктанку по направлению, оставив в городе мать, тоже учительницу, которая очень любит ее, зовет Наташенькой, дочуркой, чуть не каждый день пишет письма и вообще страшно беспокоится за нее. В городе у них хоть и маленькая (всего одна комната с кухонькой), но отдельная квартирка с удобствами. А тут пришлось поселиться на окраине, в холодной избушке, у старичков, которые держат корову, овечек, гусей и куриц, моются в тесной баньке, ими самими построенной, и каждый день, кроме громоздкой (треть избы занимает) русской печи, топят еще железную печку, труба у которой всякий раз устрашающе завывает. В комнате труба завывает, во дворах собаки воют. Ночами в избе стоит какая-то тягостная, застывшая могильная тишина. Наталье Григорьевне видятся кошмарные сны, и, просыпаясь, она слышит, как колотится ее сердце. Сугробы, чуть не до крыш. Выйдешь на улицу — тьма кромешная, только над заводом вспыхивает и вспыхивает красноватое зарево и видно, как в этом ярком отсвете длинные черные трубы подпирают черное небо. Наталья Григорьевна была истой горожанкой, любила шумные улицы с трамваями и электрофонарями, с праздничной говорливой толпой, и безлюдные заснеженные улицы Боктанки наводили на нее скуку. Но она успокаивала себя: «Ничего, привыкну. Понаберусь опыта…» В школе ей, в общем-то, нравилось: ребятишки простые, послушные. Но не все. Есть и хулиганистые. И самый-самый из них — Саша Семенов, мальчишка с настырными зелеными глазенками, егоза и непоседа. Вчера что вытворил: пожевал промокашку и с помощью резиновой тесемки запустил ее в классную доску. А позавчера швырял хлебными шариками в стену. Еще хорошо, что не в учеников.
В школе, где училась когда-то Наталья Григорьевна, работал учителем старичок с бородкой и в пенсне, чем-то похожий на Чехова. До сих пор помнит она… Стоит он у доски, спиной к ученикам, что-то собирается писать. Уже руку с мелом протягивает, сделал еще полшага к доске. И в эту минуту самый маленький в классе Мишка Зубов (он ничем, кроме роста, не выделялся) встал и шагнул к соседней парте. Учитель, не поворачиваясь, сказал:
— Зубов, сядь на место.
Ошарашенный Мишка покорно сел. Школьники думали, что на носу у старого учителя какие-то особые очки, в которых отражается все, что сзади, не через затылок же он в самом деле видит. Но не в очках тут дело было, наверное. На прошлой неделе она попробовала сделать то же самое — повернулась к ребятам спиной и, когда услышала шаги, строго сказала:
— Семенов, сядь на место.
Но это был не Семенов. Ученики захихикали.
Раздражала самоуверенная усмешка Семенова. И были неприятны даже его уши, большие, смешно оттопыренные.
На улице белым-бело — глаза режет. Облака тоже белые. И пухлые. Облака пухлые и снег пухлый. Санька пинает снег. Он и облака с удовольствием пнул бы. Под ноги попалась консервная банка, пнул ее. Хоть и мягкий снег, а банка маняще позванивает.
Саньку обогнали девчонки, среди которых была и Зинка. Важненько так это идет, две косички ровненько лежат на спине. Семенов решил еще раз дернуть ее за косички, уже шагнул было, но передумал. Ладно, пускай поважничает.
За березовой рощицей он увидел двух незнакомых мальчишек, один был в пальто, другой в латаной тужурке. Тот, что в пальто, держал белого голубя. И как — за крыло! Птица слабо дергалась.
— Да че ты, Федь?.. — сказал второй мальчишка. — Унеси домой его. Хоть суп будет.
— А мы их не едим.
— Их можно есть.
— Мама говорит, что они поганые. Как вот воробей или сорока.
— Слушай, а если тебя… за ногу, — сказал Санька. Тихо и просто сказал.
— А он все одно подыхает. Еще вчерась заболел.
Мальчишка бросил птицу на снег. Голубь резко дергался, пытаясь встать.
— Видишь? — Мальчишка тяжело дышал и шмыгал длинным носом. — Сам себя измотал, дурак.
Санька поднял голубя. Тот был мягкий, как тряпка, и лишь когда дергался, тело его приобретало какую-то упругость — в упругости была жизнь. Остатки жизни. Федька подошел к Семенову и потянул птицу за ногу.
— Отдай. Слышишь?
— Отдай, это ж его, — сказал мальчишка в тужурке, сонно глядя на Семенова.
Губы у Федьки мокрые. «Пошто они мокрые?»
— А зачем мучишь? — сказал Санька.
— Я не буду за крыло.
— Не лезь! — крикнул Санька. — Не лезь, говорю!
— Он мой. И ты не имеешь права.
Федька начал вырывать птицу, и Санька оттолкнул его. Мальчишка подскочил и, пыхтя, держа голову наклонно, будто бодать собирался, рявкнул непонятно что и пнул Семенова ногой в живот. Пинок получился слабым — Санька успел отступить. Больно не было. Было обидно. Семенов еще раз, уже изо всей силы, оттолкнул его. Федька, попятившись, запнулся и повалился. И тут же злобно вскочил:
— Я милиционеру скажу. Ты — вор. Вор, вор, вор! Вот ты кто!
Он еще раз хотел пнуть Саньку и уже заметно прицеливался, но тот был настороже. Семенов не на шутку рассердился и несколько раз помахал кулаком перед Федькиным носом:
— Я те счас врежу.
А теперь пора сказать о Наталье Григорьевне. Она шла домой. И кое-что видела, слышала. Во всяком случае, поняла, что к чему, и строго спросила:
— Вы что тут делаете?
— Он взял моего голубя. Это мой.
…А все же странно бывает, — раздумывала Наталья Григорьевна, шагая по улице. — Рождаются два человека в глухом поселке; все вроде бы схожему обоих рабочие семьи, одна школа, одна улица, рядом один и тот же завод, одно и то же небо над головой, а совесть разная. Почему? «Частная нравственность всегда в зависимости от общественной». Кто это сказал? А не все ли равно, кто. В общем-то, правильно. Но общественная нравственность для этих трех мальчишек одинакова. Положим, люди не медные пятаки. Кстати, и пятаки бывают разные. «Пятаки… При чем тут пятаки?» Книжная фраза о «частной нравственности», вычитанная когда-то много лет назад, назойливо лезла ей в голову.
«Это от усталости. Мне трудно. И я устаю. А усталость порождает навязчивые мысли и тягу к умозрению».
Она вспоминает покойного отца, который говаривал о себе: «Все мои предки были неграмотными. Сам я слесарь. У меня грубое плебейское лицо. И нос картошкой. Не пойму, почему Агнесса выбрала меня». Действительно, мать во многом была не похожа на него: из семьи учителей, по словам людей, знавших ее, «интеллигентка до мозга костей», не в пример шумливому, вспыльчивому мужу, всегда корректная, сдержанная. А вот понятия о нравственности и порядочности, как считает Наталья Григорьевна, у них были одинаковыми.
Детство, милое детство. Хотя и тогда, если разобраться, не все было легким. Недаром говорят: время — лекарь. А то что бы было, если бы раны всю жизнь кровоточили…
Она начинает вспоминать школу, хулиганистых ребятишек, свою улицу с бойко позванивающими трамваями, старый кирпичный дом, где родилась, шалопутного соседа-пьянчужку. Да, да, всякое было. Были и раны. Жизнь есть жизнь.
Санька вяло шагал по дороге. Посвистывал. По-особому посвистывал — недовольно. У него странное ощущение: туловищу жарко, ногам тоже, а лицо, уши и пальцы рук мерзнут, — видимо, на улице порядочный морозец. Но почему не мерзнут ноги и спина?
Догоняя Саньку, Наталья Григорьевна впервые подумала, что шутки его в общем-то не злые. Она крепко отчитала мальчишек, которые мучили птицу, пропесочила их и теперь почему-то чувствовала себя так, будто не они, а она сделала что-то дурное, раскаивается в этом и не знает, что делать дальше.
— А голубь где? — спросила она.
— Пропал. Я там вон в снегу зарыл его.
А Наталья Григорьевна хотела отнести птицу родителям мальчика. Того, который в пальто. Даже его адрес записала.
— Пойдем. Нам с тобой, кажется, по пути. — Помолчала и заговорила, уже слегка назидательно: — Плохо, когда человек боится только закона и когда его совесть еще не разбужена. Есть совесть, есть и стыд…























