Вольница
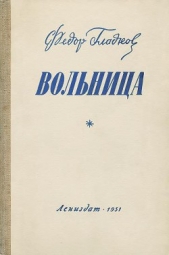
Вольница читать книгу онлайн
Роман «Вольница» советского писателя Ф. В. Гладкова (1883–1958) — вторая книга автобиографической трилогии («Повесть о детстве», «Вольница», «Лихая година»). В романе показана трудная жизнь рабочих на каспийских рыбных промыслах. Герои проходят суровую школу жизни вместе с ватажными рабочими.
В основу «Вольницы» легли события, свидетелем и участником которых был сам Гладков.
Постановлением Совета Министров Союза ССР от 22 марта 1951 года Гладкову Федору Васильевичу присуждена Сталинская Премия Первой степени за повесть «Вольница».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Это кто тебе сказал?
— Вот Федяшка говорил. Мы с ним из-за этого подрались.
Матвей Егорыч перевёл на меня глаза, и они придавили меня к стулу. А кулак его лежал на столе и дышал, сжимаясь и разжимаясь.
— Ну? А ещё что ты ему сказал, людёнок? Не бойся, говори! Не гляди на мой кулак: он — не для детей. Ты можешь сдунуть его, как рыбью чешую. Говори!
Но у меня всё замерло внутри, и во рту так стало сухо, что язык плотно прилип к дёснам. Я смотрел на плотового, прикованный к его багровому лицу, и с ужасом чувствовал, что судорожно улыбаюсь. А Гаврюшка тыкал меня в бок и со злорадным нетерпением требовал:
— Ну, говори, ежели правда! — И вдруг засмеялся: — Ага, соврал!
Я никогда не врал — у нас это считалось грехом, — и крик Гаврюшки возмутил меня. Я даже вскочил со стула и с дрожью во всём теле проговорил:
— Я сам видал.
Матвей Егорыч усмехнулся в бороду, но сурово приказал:
— Подойди сюда!
Я невольно пошагал к нему вокруг стола, и мне казалось, что я с трудом отдирал ноги от пола. Я ждал неизбежного: вот подойду к нему, и он схватит меня за волосы или за уши и начнёт шлёпать своей убийственной ладонью. Но я ощутил мягкую его руку, которая заворошила мои волосы.
— Не струсил — это хорошо. Кулаки пускаю в ход — верно. И за руку меня девка схватила — тоже верно. Но судить меня ты не можешь: судья должен знать, почему одни люди так себя ведут, а другие — по-другому: одни лямку тянут, другие на них ездят. А вы с Гаврилой ещё комары. Подрастёте, поломаете свои горбы, попадёте под аркан, поплачете, побеситесь и станете, может, хуже, чем я. Мне этих кулаков досталось вдоволь. Вижу скота бессловесного, который моему кулаку поклоняется, — бью и бить буду. Вцепись зубами в этот мой кулак, и мне — по зубам! Тогда я, может, сам тебе поклонюсь! Я сам всю жизнь к Марии тянулся, а попадал к Марфе. Это я из евангелья: там Христос с Марией душу отводил, а Марфа житейская орала на них и помоями обливала. Иди! Садись на своё место!
Многих слов плотового я не уразумел, но смысл его речи был мне понятен. В Матвее Егорыче я чувствовал что-то общее с дядей Ларивоном. Этот его угрюмый хмель и странный бунт против какого-то скотского загона — всё это я уже слышал когда-то. Но Матвей Егорыч был похож на больного, который не знает своей болезни, или на слепого, который попал в грязь и не может из неё выбраться. В нём я угадывал добрую душу, а эта душа корчится, как рак в куче рыбы, и зарывается ещё глубже.
Марфа Игнатьевна принесла на подносе судака в помидорной подливке и четыре стакана кофе с молоком. Она поставила передо мною тарелку с вилкой и улыбнулась мне с приветливостью сытой, вальяжной хозяйки, которая даже передо мной, приблудным парнишкой, хочет показать своё превосходство матери «хорошего» семейства.
— Ну, закуси с нами, мальчик, полакомься. Ведь тебе в казарме такое блюдо и не снилось. И кофе, верно, никогда не пробовал. У тебя кто мать-то? Резалка?
Я заупрямился и промолчал, уткнувшись в тарелку с рыбой, которая сразу одурманила меня своим ароматом. Но я сделал вид, что этот чудесный кусок, словно поданный на скатерти-самобранке, совсем меня не привлекает: меня парализовала и брезгливая снисходительность Марфы Игнатьевны, и деревенская привычка не прикасаться к чужой пище, пока не попотчуют несколько раз.
— Ешь! — подтолкнул меня Гаврюшка и насадил на свою вилку кусок судака. — Чего ты нахохлился?
— Не хочу я… — не поднимая головы, пробурчал я.
— Нет, хочешь. Вот и соврал, ага!
Мне было тягостно: мучительно хотелось поесть судака, облитого пахучей приправой, но подавляла сытая, вальяжная женщина. А Гаврюшка ещё больше заставил меня спрятаться в себя: он обличил меня во лжи, но спорить с ним я не мог. Конечно, я врал, но эта ложь была только деревенским приличием, которое принято было в нашей семье, в мужицком быту. Гость, который садится к столу с первого приглашения, считался неучтивым.
Когда Марфа Игнатьевна поставила передо мною тарелку с рыбой и положила вилку, белые, пухлые пальцы её показались мне очень недоброжелательными. По рукам я как-то бессознательно научился определять характер человека: есть руки добрые, сердечные, которым сразу доверяешь, есть — хитрые, притворные, вкрадчивые, есть — злые, враждебные, от которых хочется отодвинуться, а есть — сытые, брезгливые, неприветливые. У Марфы Игнатьевны были руки и притворные, и брезгливые. Когда же я украдкой взглянул на её лицо, такое же белое, пухлое, с дряблыми отёками на щеках, с улыбочкой, которая не хотела улыбаться, я увидел, что эта женщина гнушается мною, считает меня поганым, что она терпит меня в своей горнице только потому, что я, по дурацкой случайности, оказался под покровительством Матвея Егорыча. Если бы я пришёл только с Гаврюшкой, она выгнала бы меня, а Гаврюшку обругала за дружбу со мною. Я почувствовал, что она не «простая», не из «черняди», а, должно быть, из купчих, из среды тех людей, которые к рабочим людям относятся, как к скотине.
Гаврюшка толкал меня локтем и подбодрял:
— Ну, ешь! Чего ты бычишься?
Матвей Егорыч косился на меня из-под волосатых бровей и усмехался.
— Марфа Игнатьевна, — с добродушной строгостью приказал он, — налей-ка мне стакашку! Сухая ложка рот дерёт.
Марфа Игнатьевна приложила к вискам пальцы и сделала скорбное лицо, но глаза её стали острыми, а углы рта опустились.
— Не налью! — тихо, с ненавистью сказала она и опустилась на стул в своём пышном шёлковом платье. — Не налью, Матвей: ты и без моей помощи налил себя до краёв.
Матвей Егорыч будто не слышал ядовитого голоса Марфы Игнатьевны; он ткнул рукой в мою сторону и угрюмо предупредил:
— Знаю: хоть и хочется лопать, а в горло не лезет. Понимаю. Однако и за чужим столом смелость нужна, как и на лодке в моряну… — И так же добродушно потребовал: — Встань-ка, Марфа Игнатьевна, и налей рюмашку перед закуской ради прежней любви богатой девицы к кудрявому рыбаку, славному разбойничку в лицедействе. Помнишь, как я играл Степана Тимофеевича Разина? Эх, времечко было! Слеза дрожит, и сердце стонет.
Он уронил свою растрёпанную голову на руки и свирепо застонал.
Гаврюшка бросил вилку и, поражённый странной скорбью отца, неожиданно засмеялся. Мать поднялась, с отвращением фыркнула и поплыла к двери.
— Глаза бы на тебя, потерянного, не глядели… Гавря! Иди уроки учи! Отец тебя на добро не наставит.
Матвей Егорыч вдруг встал и спокойно, но властно сказал:
— Марфа! Что я говорю? Исполняй!
К моему удивлению, Марфа Игнатьевна необычно юрко повернулась и с трусливой улыбкой забормотала:
— Матвей Егорыч, родненький! Садись, не надрывай сердца-то! Господи, как бы опять беда тебя не посетила…
Гаврюшка сидел, застывший и бледный, словно оглушил его какой-то внезапный удар. А Матвей Егорыч стоял, потрясённый, и тяжело дышал. Лицо его исказилось болью, борода дрожала, но он улыбался.
— Да, Гаврило… ржёшь надо мной. Смейся! Смеётся и Мария, а Марфа расфуфырилась. Ни Стеньки, ни персиянки! У вас с людёнком — сокровища. Где сокровища? На разбитом корабле… на разбитой барже! А там только — хлам, тлен, гнилушки!..
Он медленно сел, озираясь, жуткий, но кроткий, похожий на безумного. Я встал и опрометью выбежал на двор. Так я и не полакомился янтарно-вкусным куском судака у Гаврюшки.
XXII
Вечером, когда резалки сбросили свои штаны, вымылись и надели юбки, Прасковея, похожая на цыганку в своём цветистом платье, вскочила на боров печки и неожиданно выросла перед нашими нарами. Мне показалось, что вся она улыбалась — и круглыми, смелыми глазами, и крупным ртом, и всем сильным своим телом. До сих пор она не интересовалась матерью — должно быть, считала её слабенькой, покорной и смирной работницей, которую легко ушибить одним шутейным словом. А шутки она бросала грубо, с размаху, как озорница, но я чувствовал, что за этим озорством она прячет неутихающую боль. Я не раз видел, как у неё вздрагивали углы рта и глаза на мгновение застывали, озарённые какой-то неожиданной, обжигающей мыслью. Только на эту боль она никому не жалуется и, вероятно, считает унизительным показывать своё горе. И мне приятно было, что мать тоже следит за Прасковеей с завистливым любопытством, и ей очень хочется подружиться с нею. Марийка, девчонка дружелюбная, не обижалась на грубые шутки Прасковеи и говорила матери:


























