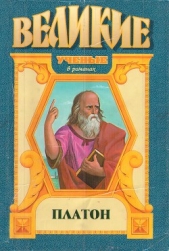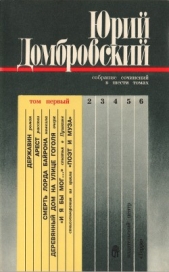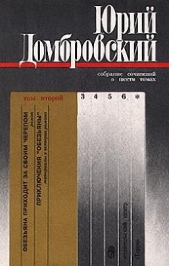Рождение мыши

Рождение мыши читать книгу онлайн
Впервые к читателю приходит неизвестный роман одного из наиболее ярких и значительных писателей второй половины XX века Юрия Осиповича Домбровского (1909–1978). Это роман о любви, о ее непостижимых законах, о непростых человеческих судьбах и характерах, и отличают его сложная философия и непривычная, новаторская композиция. Считалось, что текст, создававшийся писателем на поселении в начале 1950-х годов, был то ли потерян после реабилитации (Домбровский сидел в общей сложности десять лет, не считая первой ссылки в Алма-Ату в 1933 году), то ли уничтожен. К счастью, оказалось, что все эти годы роман хранился в архиве писателя.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Да куда ж ты к ней лицом, у нее же глисты! Ну смотрите, Сережа, как жить с таким уродом!
Но я знал — она, между прочим, и потому его любит, что он урод.
Конец Воспитанницы был таков.
Когда Николай уехал на фронт, а Нина спешно вернулась с гастролей, рысь целый день ходила за ней, вопросительно глядела на нее и мяукала (это не мяуканье, конечно, это гортанный лесной крик, немного похожий на призывный крик оленя). Подойдет к Нине, встанет против нее, смотрит и требовательно мяучит. Нина, которая сразу похудела, побледнела и вдруг приобрела легкую походку лунатика, продолжала по-прежнему заботиться о ней.
Горе сближает больше, чем радость, и однажды Даша рассказала мне об одном их разговоре.
— Плохо тебе? — грустно спрашивала Нина у рыси. — Скучно? А мне каково? Вот легла бы рядом с тобой и замяукала! А кормить-то тебя надо! — Рысь молчала и смотрела на нее. — Эх, зверина! Я-то тебя понимаю, да ты-то никак меня не поймешь.
А так все шло по-прежнему. Мясо у Воспитанницы было всегда, и когда я приходил к ним, Нина, как и раньше, выходила из кухни в фартучке и с засученными рукавами, но Воспитанница не ходила уже вокруг меня и не нюхала морозную шубу, а тихо лежала на своем матрасике под роялью и дремала. Только когда мы сели за стол, она вдруг поднялась, подошла ко мне, постояла и ушла. Когда месяца через два я встретил Нину в театре, она мне сказала:
— А знаете, вчера приходили из зоопарка и уговорили меня отдать им Воспитанницу.
— Как?! — воскликнул я.
Она спрятала глаза.
— Под сохранную расписку, до его возвращения. — И так как я молчал, объяснила мне: — Ну, всю душу из меня вытянула — зацепит лапой за платье и тянет. А у меня и так все из рук падает. Вот уж вернется наш хозяин…
Но Нинин хозяин все не ехал, а слал жизнерадостные открытки, а потом и открытки перестал слать — замолк совсем, и Воспитанница так и осталась в зоопарке. Но однажды Нина позвонила мне и, не здороваясь, сказала:
— У меня такое горе — погибла Воспитанница!
— Как так? — обомлел я.
— Все я виновата, — голос у Нины дрожал. — Оказывается, они там стали ее запирать, а меня не было целую неделю. Она три дня ходила по клетке не останавливаясь — думали, привыкнет. Куда! У нее же характер Николая — с ними злом ничего не сделаешь! Вечером ее стало рвать, а утром пришли, а она уже холодная. Что ж я теперь ему… — Голос у Нины дрожал, и она замолчала.
Так погибла Воспитанница моего друга — остались ворон, золотые вуалехвосты, филин Попка да суслик Пинька.
III
Шли дни и месяцы. Николай давно попал в рубрику пропавших без вести, в волосах у Нины появилась серебряная прядь.
Золотые вуалехвосты сдохли, ворон и Попка улетели, только Пинька — любовь и гордость Николая — все жил и портил мебель. Он словно чувствовал, что у него все впереди.
Так и случилось.
В 44-м году, зимой, театр решил поставить для клубов и госпиталей какую-нибудь мелодраму полегче и позабористее.
Остановились на «Соборе Парижской Богоматери».
Нашли старую инсценировку, перепечатали и передали мне с просьбой почистить и поджать.
Я очинил карандаш, да и начал крестить. Массовые сцены — прочь! Вставные номера — прочь! Все, что не умещается на трех досках поверх двух бочек, — тоже прочь! Так я вычеркнул примерно 25 процентов текста, и пьеса приобрела легкость необыкновенную. В таком виде ее начали репетировать, и месяца через три пригласили меня на прогон.
Мне понравились все, кроме цыганочки Эсмеральды. Ее играла Кручинина. Ну, слов нет, заслуженная артистка республики Кручинина-Задольская очень хорошая актриса, и Анну Каренину или Любовь Яровую она исполняет отлично, но ведь Эсмеральда — это тоненькая, легкая стрекозка — она танцует, поет и водит по улицам старого Парижа белую козочку с позолоченными рожками. Танцевала и Кручинина — но, товарищи! Ведь спектакль будут смотреть молодые ребята, они в бабах толк понимают, на все наши условности им плевать; если в тексте стоит «18 лет», то не давайте же сорок! И потом — наружность, наружность! Ведь Эсмеральда — красавица, а что такое Кручинина? Так я и сказал режиссеру.
— Да, конечно, — ответил он мне невнятно, — мы об этом уже думали, но…
Тем дело пока и кончилось, но вот однажды, придя домой, я застал у себя Нину. Она крепко спала на диване, подложив под голову ладошку.
На стуле лежала сумочка, под стулом валялась роль, а на пуфе столбиком стоял Пинька, подозрительно смотрел на меня и подсвистывал. Я постоял, постоял, полюбовался на спящую Нину, погрозил кулаком Пиньке и вышел — надо было раскупоривать консервы, ставить самовар и поить чаем обеих подруг. Когда через час влетела Ленка, я уж успел занозить об лучину руку и замазаться сажей.
Ленка ахнула и оттолкнула меня от самовара.
— А Нинка где? Лежит, книжечку читает? — спросила она, вырывая у меня косарь. — Ох уж эти барыни! Ниночка, ты же обещала мне…
— Тсс! Она спит!
— А-а! — сразу осела Ленка. — Ну-ну, пусть спит. Она, верно, чуть с ног не валится. Послушай! — Она подошла ко мне и понизила голос. — Ты чего-нибудь понимаешь? Ведь если Николай не вернется, я не знаю, что с ней будет. Вот сломал девку! И чем? Ведь они постоянно ругались! — Она засмеялась. — За три дня до войны я его встретила на улице — бежит! ничего не видит! Я: «Стойте! Куда вы?» — «А… Леночка… Здравствуйте, дорогая… Все хорошеете и хорошеете? Да понимаете, портфель я где-то…» Ну, я чуть ему не сказала: «А ну, пощупайте скорее — голова-то у вас на месте?»
Я только что открыл рот, как вошла Нина. Волосы у нее пристали к лицу, глаза еще спали, она улыбалась и поправляла прическу.
— Полюбуйтесь на гостью — пришла и завалилась спать. Леночка, в ванне какое полотенце твое? Здравствуйте, Сережа, я ведь к вам по делу!
— Петь и танцевать будет, — улыбнулась Лена и, подойдя, убрала ей со лба волосы. — Вчера был такой скандал — Кручинина наотрез отказалась играть. Началось все с танцев. Худрук посмотрел и говорит режиссеру: «От танцев Серафимы Ивановны я вас прошу отказаться, репетируйте с дублершей». Она: «Как?» — и к Нинке: «Рано вы, Ниночка, лезете в звезды». А я ей…
— Ну, ты наговоришь, — нахмурилась Нина, — в общем, Сережа, Эсмеральду играю я, и вот кое-что мне нужно от вас дополучить… Дело-то вот в чем… — Она полезла в сумочку.
Оказалось, что танцевать Нина будет с козочкой. Так и полагается по Гюго. Такая козочка есть — рожки у нее золотые. Сейчас козочка заканчивает курс наук в уголке Дурова и дней через двадцать будет готова к выходу. Так вот, ее надо отразить в тексте.
— Ниночка, а зачем вам она? Ну ее, а?
— А вы представляете, как обрадуются раненые, когда увидят козочку, — ответила Нина.
— Ты опять рысь заведи, — серьезно посоветовала ей Ленка, — пусть она пляшет! Что там коза? Без рыси ничего не выйдет! Такая же, ей-богу, психовая, как оба эти друга. Идем-ка умываться! — и она схватила ее за плечо. — Ой, что это?
Из Нининого жакета вдруг вылез Пинька, вскарабкался на плечо, поднялся столбиком и защелкал на Ленку зубами.
*
Через месяц мне прислали билет на премьеру, но в тот день я опять дежурил, а потом как-то все получалось так, что уж и рецензии у нас появились, а я все не мог вырвать свободного вечера.
Но однажды в редакцию ночью влетел Владимир. Я только что послал материал в машинное бюро, и у меня оказалась бездна свободного времени — что-то десять-пятнадцать минут, — и я сидел над стаканом чая и мирно поклевывал носом — в это время он и влетел.
— Ты спишь? — спросил он удивленно и, подойдя к окну, распахнул его. — А на улице-то какая благодать! Вставай, проводи меня. Твоя шинель?
Глаза у него блестели, от него пахло «крымской розой», а вместо галстука чернел бантик-бабочка. Я никогда его не видел таким и поэтому даже перепугался.
— Стой, стой! У меня же работа! Что такое случилось? Э-э, брат, да ты в подпитии! Все сестра просвещает! Здорово! Где же это вы так?..
Он сел и улыбнулся в пространство.