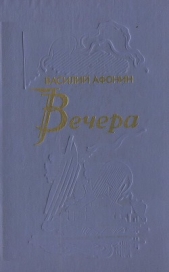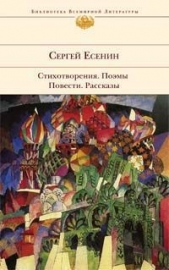В краю родном

В краю родном читать книгу онлайн
В новой книге Анатолий Кончиц продолжает разрабатывать тему неразрывной связи прошлого с настоящим, дня вчерашнего с сегодняшним. Значительное место в повестях занимают размышления о красоте среднерусской природы, о судьбах молодых людей, живущих и работающих на этой земле.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Петруша лежал на скамейке и смотрел на поблекшее вечернее небо. И ему казалось, что он лежит в красивой картонной коробке, упакованный и завернутый в вату или, может быть, в пушистое облако, похожее на вату, какие иногда плывут по синему небу в ясную погоду.
Вот он плывет и покачивается, а рядом другое облако, на котором сидят Зинаида Павловна с Катей и пьют чай.
— Расскажи о себе, почему ты такой? — вдруг говорит Зинаида Павловна.
— Какой? — спрашивает он.
— Почему ты такой урод?
— Не знаю, — вздыхает Петруша.
— Он не знает.
— Я болен, оставьте меня.
И облако с Зинаидой Павловной послушно растаивает, выступают четыре стены, покрашенные покойным Андреем Тихонычем в голубенькую краску, дверь, обитая черным дерматином, самодельный стол.
Петруша сел на скамейке и закурил, подумав с усмешкой, что сидит на дежурстве в старом деревянном доме, который по ночам скрипит от немощи.
Петруша выглянул в окошко на улицу и вдруг испугался. Двор был едва освещен слабенькой лампочкой, которая притулилась где-то под крышей. У него мелькнуло в голове, что кто-нибудь может зайти, а он не может пошевелить ни рукой, ни ногой, совсем расхворался. Он поднялся с места и проверил, заперта ли дверь. «Впрочем, кому я нужен? — подумал он. — Такие, как я, никому не нужны». В голове шумело, пришлось снова лечь. Ему вдруг показалось, что тело его разрушается, разваливается на куски, а силы тают с каждой минутой, как тает весенний снег, подтачиваемый водой и теплом. Он думал о себе, что совсем не приспособлен к жизни, что-то вроде игры природы. Такие ведь тоже бывают на свете. Но эта «игра природы» хочет пить и есть и немного человеческого счастья.
Иногда он подолгу наблюдал за обыкновенной еловой веткой, которая раскачивалась на ветру, и вдруг воображал себя этой веткой, раскачивался на ветру, переселялся мысленно в какое-нибудь существо, старался понять страдания и радости этого существа, но ничего не понимал. И тогда говорил себе, что все это глупо.
«Это все от болезни, — подумал Петруша. — В голове шумит. Надо поставить чайник да попить чаю с мятой».
Он действительно налил в чайник воды, поставил на газ и снова лег, как-то мысленно пытаясь помешать своему воображению, внушая себе, что он просто заболел и надо тихо лежать да ни о чем не думать. Но тут вдруг ему вообразился отец, Иван Колотовкин, который сидел на табуретке с гармошкой в руках. Потом выступили побеленные известкой шероховатые стены, белый потолок, с которого свисала голая лампочка, стол, кровать, заправленная одеялом, наконец прорезался резкий звук гармошки, и в этом звуке было много отчаянного задору, как и в самом лице Ивана Колотовкина, который терзал гармонь в своих больших руках и, казалось, хотел разорвать ее на части. Все это надо было понимать так, что Иван Колотовкин бросал вызов, что если надо, то еще раз пройдет всю эту проклятую войну. Он кинул на Петрушу быстрый взгляд, как будто сообщил ему: «Мы ведь все в тебе, Петруша, вся наша кровь. Понимаешь ли это? Теперь твоя очередь, мы в тебе. Не подкачай, Петруша».
Сколько уж прошло времени, а Петруша все никак не мог забыть мелькнувшую во взгляде отца веселую ярость. Тогда он не понимал, кому бросал вызов Иван Колотовкин, а теперь думал, что в отце все еще бродили отголоски войны.
Кончив играть, он убрал гармонь и стал чистить картошку, усевшись на ту же табуретку. Взгляд его потух, плечи опустились, поникли. Он облекся в такую безнадежную унылость, что Петрушино сердце содрогнулось. Картофельная очистка вилась из-под ножа затейливой лентой, руки шевелились, а сам он будто весь умер, жили только одни руки. Затаившись в своем углу, Петруша с жадностью наблюдал за отцом. Он не понимал, что с ним стряслось, только что был веселый, ярый — и вдруг весь сокрушен. Казалось бы, надо радоваться ему, что пришел с войны к ребенку и жене, каждое мгновение сознавать свое счастье, а он окаменел, и в глазах чудовищная усталость, ничего больше. Петруша всей душой потянулся к нему, чтобы взглянуть на мир его глазами, но хрупкое, детское его сознание устрашилось, отпрянуло от переполненной печалью души отца. Если бы он проник в печаль отца, то, наверное, просто бы умер. Где же ребенку выдержать эти годы войны, прожитые Иваном Колотовкиным, когда тот и сам сгибался под их тяжестью. Поэтому Петрушино сознание испуганно встрепенулось и отпрянуло. И тогда он увидел обыкновенного уставшего человека, которому осточертело чистить картошку…
Петруша выключил газ и стал заваривать чай. Об отце думать было нелегко. Он воображался ему человеком, который взвалил на плечи непосильную тяжесть, и у него лопаются жилы, кровь и пот брызжут изо всех пор, а надо идти. Эта проклятая война приросла к его хребту, как горб, и никто не мог освободить его от этого уродства, ни Петруша, ни жена его Авдотья Степановна.
Так примерно Петруша воображал себе отца Ивана Колотовкина. Однако воображение часто не соответствует действительности. И это мучило Петрушу Колотовкина.
Как-то он поехал к себе в деревню и поселился у старухи Ольги, которая доживала свой век в большом пятистенке. Полы были крашеные и гладкие, ни тараканов, ни клопов не водилось.
Спать он ложился на соломенной постели в летней комнате. В окошко был виден луг с ромашками, за лугом поле с овсом. На лугу ходила гнедая кобыла и ела траву, жеребенок, поднявши голову, смотрел вдаль, туда, где острыми зубьями торчал дикий лес.
Бабка Ольга часто жаловалась ему на свое нелегкое житье, на свою горькую судьбину, ее старший сын нечаянно застрелился на охоте. А может, и убили, тихо добавляла она, кто знает. А такой уж был соколик, такой соколик…
Она всякий раз начинала плакать, вспоминая сына, и у Петруши начинала трепетать душа, и ему хотелось заплакать вместе со старушкой, потому что души у них, как ни странно, видимо, были созвучны, понимали друг друга, жалели.
Старушка любила поговорить, и Петруша иногда задремывал под ее унылое бормотанье. Потом она вдруг появлялась перед ним с веревкой и серпом:
— Петрован, ты, буди, посиди дома. Я, этто, пожну травы козлухам. Пить захочешь, так цеди квасу, скиснет уж, поди, скоро. Надо допивать.
— А чего это ты меня Петрованом зовешь?
— Дак ведь маленького тебя все так кликали.
— Вот оно что.
— Ну-у, — протянула бабка Ольга. И она ушла за травой, подпираясь белой ивовой палочкой.
Потом он уехал за продуктами в город, но так, кажется, ничего и не купил, кроме связки баранок.
Было еще утро, но все уже вокруг наливалось желтым зноем. Ухабистая улица, заваленная опилками, пахла кисло. Дети шли по этой улице к реке, ехали на велосипедах по двое, а то и по трое. И Петруша тоже направился к реке, которая вся была перегорожена бонами, рвалась из них, шумела и бурлила. Течение было сильное, тело ломало, давило, выбивало из-под ног дно.
Петруша быстренько окунулся, сел на песок и закурил. Какая-то толстая женщина, сунув мочалку под лифчик, одевала ребенка. Тот старательно продевал ногу в штанину, крепко держась за шею матери. «Этот ребенок, наверное, я, — подумал Петруша. — То есть когда-то я тоже ведь был таким маленьким и беспомощным».
На берег пришли две девушки, одна светленькая, другая черноволосая. Из воды они не выходили очень долго, кувыркались, плавали, ныряли. Смуглые ловкие тела их сверкали на солнце и, видно, не знали усталости. Петруша подумал, что они, может быть, вовсе и не люди, а неутомимые великанши, бывают, наверное, такие. Наконец они вышли из воды, оделись в платья и стали похожи на обыкновенных людей. «А когда купались, то не были похожи», — отметил про себя Петруша.
Солнце садилось. Какой-то синий мальчик дрожал на берегу, синяя девочка, чуть постарше, кутала его в свое старое заношенное платье. У мальчика было старческое от колода лицо, а у девочки — лицо взрослой мамы.
— Согрелся? — выстукивала она зубами. — Ты согрелся, Петька?
Мальчик кивнул стриженой головой: