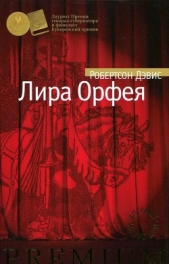Лира Орфея
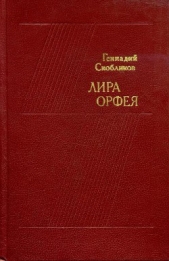
Лира Орфея читать книгу онлайн
В романе автор продолжает исследование характера нашего современника, начатое им в повестях «Варвара Петровна» и «Наша старая хата».
Эта книга — о трудном счастье любви, о сложностях и муках становления художника.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
...Да, новая полоса бессонницы, почему-то не спится ему. То ли переутомился просто, то ли еще что. Но, правда, потом засыпает, где-то за полночь, и уже спит до утра.
А пока вот лежит, следит глазами по потолку подвижные тени. Внизу на улице ветер раскачивает фонарь, и над ним тут, по потолку, туда-сюда черные тени балконной ограды и переплетов двери и рам: пересекающиеся темные полосы разной ширины и плотности, и между ними расплывчатые пятна света. Каждую ночь...
И еще эти вот почему-то возникшие ассоциации. Темные тени по потолку в его комнате — и черный железный остов старой довоенной молотилки, посреди поля за их деревней. И еще — та самая, та оглушившая его тогда картина, на Французской национальной выставке, в Сокольниках...
Она осталась там с начала войны, еще до немцев, та молотилка, и постепенно с нее посрывали все: и доски и жесть, поснимали всякие там шкивы, шестеренки и подшипники, и на долгие годы остался стоять посреди поля только ее оголенный черный железный остов — из рамы и множества перекрещивающихся разных уголков и полос. Она стояла далеко от деревни и от дороги, и, маленькому, когда ему случалось с отцом или сестрами проходить или проезжать по этой дороге, молотилка всегда казалась ему и непостижимо притягательной и чем-то таинственной и, может быть, даже жутковатой.
А позже он много лет подряд гонял сюда на поле вместе с другими ребятами и девчонками пасти на жнивье гусей и, наверное, сотни раз играл на этой самой молотилке и знал наперечет все ее углы и перекладины. И конечно же, ничего загадочного в ней — самой по себе — для него уже не было.
Но вот что случалось тут с ним — и случалось, он помнит, не один только раз. Остановится он вдруг как-нибудь один у молотилки, засмотрится на ее черный остов... и так ему, будто в этом вот перекрещении черных полос и рам, во всей этой черной конструкции на фоне неба заключено что-то... загадочное и таинственное — и непостижимое для него. Что-то как будто бы ощутимое, почти угадываемое, знакомое — и в то же время неуловимое и чем-то будто пугающее его...
И еще сильнее бывало это же ощущение и смятение его, когда он ловил в ее черный остов низкое предзакатное солнце: то же — простое и непостижимое — перекрещение черных полос, и из них, из их глубины — блещущий белый диск!..
И вот потом, потом, много лет спустя, на упомянутой уже Французской выставке в Сокольниках: черные широкие полосы, перекрещенные в разных плоскостях, и в центре их — из самой их глубины — неожиданное и беспощадное пронзительное белое пятно... Как удар всей меди оркестра в первой части «Шестой симфонии». Он всегда ждет этого удара меди, и все равно всегда вздрагивает, будто застигнутый им врасплох...
Вот и тогда было такое же. Он взглянул и буквально вздрогнул от неожиданного и беспощадного белого удара из самого центра перекрещенных черных полос. Будто это был взгляд неизбежности, крик неизбежности, и он, словно в лицо, узнавал его...
В погожий и теплый, просто прекрасный осенний солнечный день, на Французской национальной выставке в Сокольниках, в павильоне «Искусство». Он тогда медленно и долго двигался в людском потоке, переходил из зала в зал — и конечно же, все, абсолютно все было для него тут незнакомо и неизвестно. Да и откуда же, господи: Делонэ, Моаль, Вюльями... — откуда ему было их знать! Только Пикассо, кажется, и был немного знаком ему. Но он ходил, как и все сотни и тысячи рядом с ним, с непроницаемо умным видом и время от времени заносил в свою записную книжку фамилию художника и название чем-то остановившей его картины: может даже своей «непонятностью». А непонятного для него тут действительно было что.
А потом был и этот, самый последний в павильоне, зал, и та картина, слева вверху над дверью. Он тогда так и не записал ни ее названия (если она как-то там называется), ни фамилии художника.
Да, это был словно бы леденящий ужас перед неотвратимой неизбежностью чего-то конечного для всех. И выражено все это было предельно просто и точно: грубое перекрещение черных полос, не оставляющих места ничему другому, и из них, из самой их глубины — белое это пятно, белый крик.
Действительно: ужас неотвратимости.
Как бывает ему иногда и во сне, когда снится опять приход немцев или третья — ядерная — мировая война.
Или еще тот жуткий сон, от которого он всегда в ужасе просыпается и которого не может точно вспомнить никогда.
Да, и маленьким, он хорошо помнит, и потом уже, взрослым, в одном время от времени повторяющемся ему холодном и жутком сновидении он много раз переживал этот вот леденящий ужас: какая-то, снившаяся ему, неотвратимая машина — и что с ним, с п о с л е д н и м и з в с е х, вот-вот произойдет...
Нет, никогда не может он зрительно вспомнить или как-то по-другому воссоздать эту машину наяву. Он разве может только сравнить ее, и то весьма и весьма отдаленно, с подобием цирковой арены, где сам он пока еще цел и в центре, а она, эта машина (вся «арена» и дальше весь до самого купола круглый «цирк») уже вращается вокруг него, все быстрее и быстрее, и сознательно начинает неотвратимо затягивать и засасывать и его, как она затянула, засосала и поглотила уже всех остальных...
И главное, что он весь в поле притяжения этой самой машины и ему никак не противодействовать ей, никуда уже не убежать и никому не крикнуть о помощи. И что самое страшное и самое непоправимое там, в этом сне, — что ему уже не успеть, ему уже не успеть никому об этом обо всем рассказать...
...Темные полосы, желтые пятна света. Влево-вправо, влево-вправо. И мысли, самые разные и о самом разном, а подумать — так все и всегда об одном и том же. Всю жизнь свою думаем мы, каждый из нас, будто о чем-то одном.
Вот и уходим, когда нам не спится, каждый по-своему и каждый в свою особую, никому не ведомую больше, ночь...
19
А может, вполне хватило бы одной вашей встречи, одного хорошего разговора? Встретились бы, посидели, поговорили, рассказали бы друг другу все нынешнее свое — и он, смотришь, освободился бы от своей многолетней тяжести, от невысказанной своей вины? И тогда — совсем бы, незачем ему писать все вот это тебе, совсем бы незачем было б писать?..
Вполне возможно.
Но только... почему же не стремился он все эти годы к такой вашей встрече? Почему трудный и длительный нынешний его разговор на бумаге заменяет ему ее? И разве именно не эта вот потребность, а точнее — сущая необходимость, от которой было просто никуда не деться, заставила тогда, в ту его поездку (сколько: восемь или даже девять лет назад), не разыскивать тебя в N, и он оставил свою исповедь и свое покаяние до такой вот, совсем иной уже, встречи?.. Хотя, конечно, было тогда и нечто еще другое, в том числе и чисто житейское, что тоже диктовало его поведение ему. Не только ведь — эта вот, все еще вызревавшая тогда, далекая ваша встреча...
«4.12.61.
Здравствуй, Максим!
Конечно, я не могла даже и подумать, что после всего, что произошло, получу от тебя письмо, но...
Хотела бы я знать, что мог бы ты объяснить. Ведь объяснения, как и все, что было между нами, это лишь пустота и не больше. Я всегда видела это, но мне хотелось, чтоб ты искренне сам в этом признался, но у тебя не хватило на это совести. Ты умеешь красиво говорить и писать, но все это лишь слова, мертвые слова, от которых никому нет пользы, нет тепла даже тебе самому.
Ты пишешь, что бывает, когда напоминаешь о себе, не понимая зачем. Как всегда, хорошо сказано, но ведь ты же отлично знаешь, зачем пишешь, зачем напоминаешь о себе. Ты никогда ничего не делаешь, не преследуя какой-нибудь цели.
Извини, что так резко пишу, но мне надоели все эти уловки и ухищрения. Может, ты посчитаешь меня эгоисткой, дело твое, но я настолько счастлива, что даже не хочу и вспоминать о том, что было, настолько оно ничтожно и неискренне.