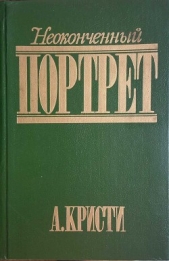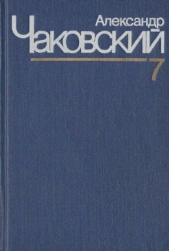Неоконченный портрет. Книга 2

Неоконченный портрет. Книга 2 читать книгу онлайн
Роман Александра Чаковского посвящен жизни и деятельности тридцать второго президента США Франклина Д. Рузвельта. Роман создан на основе документальных материалов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вначале бесцеремонность Шуматовой вызвала у Рузвельта раздражение. Сотни тысяч американских парней гибнут там, на войне. Судьба многих из них неизвестна. Какое же право имеет та женщина на исключение? Какое право имеет и эта дама с вульгарным цветком на лацкане жакета обращаться к нему с подобным вопросом? На каком основании? Только потому, что рисует его портрет?.. Ее следовало бы поставить на место! Президент хотел было ответить ей резко, но вдруг подумал: «Ведь речь идет о сыне! О жизни и смерти неизвестного мне, но бесконечно дорогого для той женщины американского юноши. Жизнь — самое ценное. Смерть — страшное „никогда“». Нет, недаром в мирное время он из всех поступавших к нему бумаг просматривал прежде всего ходатайства о помиловании. ...Но заниматься делами неведомого военнослужащего Рузвельт сейчас не мог. Не имел нравственного права. Сказать, что в шифровке не было ничего утешительного, тоже не мог — это было бы жестоко. Заверить художницу, что все изменится, если русские выполнят свое обещание?.. Боже сохрани, это государственная тайна!
Слова, сорвавшиеся с губ президента, поразили Шуматову. Рузвельт сказал:
— Хорошо. Я вам отвечу. Договор с Японией денонсировал Сталин. Он знает, что делает. На него можно положиться.
— Вы шутите, конечно! — едва сдерживая возмущение, воскликнула Шуматова. — Воображаю, с каким чувством вы отправлялись в Тегеран и в Ялту для встреч с этим безбожником! Ведь все, что свято для вас, чуждо и враждебно ему.
— Вполне возможно, — пожал плечами Рузвельт. — Может быть, и все. За одним исключением. Есть нечто святое для нас обоих.
— Что же? Не могу себе даже представить.
— Верность.
Он произнес это слово и тут же подумал: «Верность... А сколько раз мы обманывали его со вторым фронтом?..»
Сеанс продолжался в полном молчании.
Глава четвертая
ЕЩЕ ШАГ В ПРОШЛОЕ
Имя Сталина — с тех пор, как началась война, и в особенности после того, как он познакомился лично с советским лидером, неизменно вызывало в сознании Рузвельта цепь воспоминаний. Это имя означало для президента Россию — Советскую Россию. Иначе и быть не могло. Со Сталиным, Россией был связан ряд важнейших решений, важнейших действий Рузвельта. Признавать или не признавать Советы? Помогать России в войне против Гитлера или, как рекомендовали Трумэн и его единомышленники, ждать, пока русские и немцы истребят друг друга? Открывать или не открывать второй фронт? Когда? И где? Рассчитывать на послевоенное сотрудничество или нет?
Это были вопросы глобальные, А сколько других, менее значительных, но столь же тесно связанных с Россией, приходилось решать президенту!
Когда он вернулся из Тегерана, где состоялась его первая встреча со Сталиным, десятки людей одолевали его вопросами: что представляет собою Сталин? Правда ли, что он — коварный диктатор, стремящийся большевизировать весь мир и в первую очередь Европу? Можно ли полагаться на его слова?
Как будут складываться дальнейшие взаимоотношения между союзниками? Как Сталин отнесся к очередной отсрочке второго фронта?
Много воды утекло с тех пор. Второй фронт открыт, победа союзников в Европе обеспечена. И, что сейчас самое важное, Сталин обещал вступить в войну с Японией через два-три месяца после капитуляции Германии. О военных действиях в Европе знает весь мир. Обещание Сталина пока что остается государственной тайной. Но слово дано... Да, многие события, когда судьба не только России, но и всей антигитлеровской коалиции висела на волоске, отошли в прошлое. Но, очевидно, есть особое наслаждение в том, чтобы вспоминать время, когда над тобой нависала грозная опасность.
«В сущности, — подумал президент, — я ведь даже не пытался проанализировать характер Сталина как личности. Я лишь ставил конкретные вопросы применительно к той или иной обстановке. Как он проявит себя в качестве полководца? Не сгорит ли его воля, его душа в огне бушующего пожара? В какой мере можно положиться на его верность целям антигитлеровской коалиции? Стерлись ли в его памяти горькие воспоминания о послереволюционной интервенции? До каких пор он будет шагать в ногу со своими союзниками, придерживающимися иных политических и социальных взглядов?»
В психологию этого загадочного человека Рузвельт никогда не вдавался. И теперь ему трудно было ответить на вопросы, которые он сам себе задавал. В какой мере обида может повлиять на дальнейшее поведение Сталина? Простит ли он Америке бернскую авантюру? Поймет ли трудности англичан, обещавших распустить польское эмигрантское правительство, но до сих пор так и не сделавших этого? Не возьмет ли он обратно свое обещание вступить в войну с Японией? Не сорвет ли уже достигнутую союзниками договоренность о создании Организации Объединенных Наций и о порядке ее работы?
В том, так еще и не написанном ответе Сталину президенту предстояло не просто дать свою версию бернского инцидента, не просто отвергнуть упреки, связанные с «польским вопросом», но и убедить Сталина в своих дружеских к нему чувствах.
«Умный? Хитрый? Знающий? Прямолинейный? Коварный? Жестокий?..» Снова и снова пытаясь постичь Сталина как политика и человека, Рузвельт даже не вспомнил о том, что эти же вопросы ставил перед собой сегодня утром, лежа в постели.
Казалось бы, после длительной переписки с советским лидером, после личных встреч с ним, и не просто встреч, а длительных переговоров, споров по сложнейшим, запутанным вопросам мировой политики, президент должен был бы знать ответ на эти, да и многие другие вопросы.
Но он был не в состоянии постичь характер Сталина. Рузвельту никогда не приходило в голову, что разгадка станет простой, если он будет исходить из того, что вовсе не «таинственность», не элементы мистики, не какие-то недоступные пониманию простых смертных свойства души советского лидера определяют его как личность, а тот факт, что он — представитель иного социального мира, со всеми вытекающими из этого политическими и психологическими последствиями. Не понимая этого, президент по-прежнему не мог найти слов для ответа Сталину на его обидное письмо — таких слов, которые не формально, а по-человечески убедили бы Сталина.
«А может быть, подобные слова в этой ситуации вообще невозможно найти? — подумал Рузвельт. — Ведь такому человеку, как Сталин, черное за белое не выдашь!»
Президента раздирали противоречия. И разговор с Шуматовой снова ввергнул его в их гущу. Он мысленно вернулся к осени 1943 года, когда на европейском театре военных действий довольно четко наметился поворот в пользу антигитлеровской коалиции — прежде всего, конечно, благодаря беззаветной отваге русских. Но практически это означало возможность капитуляции фашистских войск только перед Красной Армией, что совершенно не устраивало бы Черчилля, да и вряд ли пришлось бы по вкусу самому Рузвельту.
«Но ведь мы же о многом договорились в Тегеране, предусмотрели, казалось бы, все варианты!» с досадой подумал президент.
Но тут же он сам себе возразил, что жизнь с ее конкретными коллизиями гораздо сложнее, чем схемы договоренностей, — она выдвигает новые задачи, завязывает новые гордиевы узлы.
Может быть, он допустил какие-либо ошибки? В Ялте или — еще раньше — в Тегеране?
Рузвельт вспомнил, как активно настаивал британский премьер на встрече «Большой тройки». На первый взгляд, в его настойчивости не было никакого «подтекста». Казалось бы, что удивительного в том, что в сложнейший период войны, когда лучи Победы стали наконец пробиваться сквозь грозовые тучи, лидеры стран-союзников хотят встретиться, чтобы договориться по ряду вопросов дальнейшей совместной стратегии?
Но президент знал: не только это естественное желание руководит Черчиллем. Из бесконечной переписки с английским премьером, из личных бесед во время его посещений Соединенных Штатов Рузвельт вынес совершенно определенное впечатление: главное, что беспокоит Черчилля, определяется двумя словами: «второй фронт».