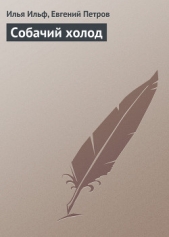Ладожский лед
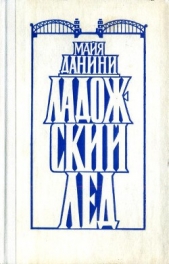
Ладожский лед читать книгу онлайн
Новая книга ленинградской писательницы Майи Данини включает произведения, относящиеся к жанру лирической прозы. Нравственная чистота общения людей с природой — основная тема многих ее произведений. О ком бы она ни писала — об ученом, хирурге, полярнике, ладожском рыбаке или о себе самой, — в ее произведениях неизменно звучит камертон детства. По нему писательница как бы проверяет и ценность, и талантливость, и нравственность своих героев.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Теперь все собирают коллекции. Знала такого человека, который собирал коллекцию печатей и одну — самую ценную — первую печать японских императоров — нашел на дворе в старом доме, почти закопанную в землю, каменную, огромную. Он поднял ее и прочел стертую надпись. Написал в музей, и оттуда ответили, что такого не может быть, что эта печать утрачена в каком-то там веке. Он еще раз написал — в другой музей, и тогда его пригласили в Японию вместе с печатью.
Он долго не мог собраться, но поехал наконец, и принимали его как императора. Оказывали такие почести, что он оторопел совсем, не знал, куда деваться от всевозможных церемоний. Его кормили жареными хризантемами и всякой всячиной, имя которой он не ведал, но чувствовал к ней некоторую опаску, если не сказать больше, чем огорчал людей вокруг несказанно, и они все спрашивали, что, что ему приготовить, как уложить, куда повезти, что показать. Он хотел простой жареной говядины в достаточном количестве, хотел свежее яйцо всмятку, а не курицу под соусом из водорослей, но его кормили всеми видами водорослей и рыб, которые пахли розами, а на третье подавали розы в рыбном рассоле.
Его приглашали еще и еще, и он приехал еще раз, но тогда ему сказали, что в третий раз древнейшая из печатей уже не выедет назад в Россию, таков закон Японии. И он остерегся, не поехал, хотя за два путешествия в Японию попривык и к церемониям, и к поездкам на яхтах, привык к тому, что надо созерцать природу после обеда, да и к самому обеду привык.
Он уже даже скучал без рыбного рассола из хризантем на завтрак. Но — не поехал. Слушая его рассказы и зная его лично, я с тех пор всегда на старых двориках оглядываю камни: авось тоже случится найти такое вот чудо. Но не случалось даже и туеска порядочного отыскать. И вот нашелся ковшик, который скромно лежал на завалинке, а я скромно стояла возле, потрагивая его, будто от нечего делать. Хозяин и внимания не обращал на ковшичек. Он покуривал, поглядывал на щенка, хотел только, чтобы мы посмотрели его корни, а то и их не хотел показывать, а только щенка.
— Вот ковшичек этот мне нужен — воду черпать…
Он и не глянул на ковшик.
— Пить, что ли, хочешь?
— Не пить, а воду вычерпывать из лодки, — у меня и голос дрожал.
— Бери.
Я мгновенно взяла ковшик и пошла отмывать-отмачивать его в реке. Шла и думала, что он не понял, какой мне ковшик нужен, для чего. Спохватится — отнимет. Решила пойти в магазин и купить простую миску или отдать ему взамен наши — эмалированные, если не найду в магазине. Но я ошиблась, ах как ошиблась! Этот ковшик совсем не был единственным в доме и очень старым, это была его работа, да и какие ковшички тут были, какие корзинки, лапотки, резные копилки, тарелки и прочие вещи. Можно было рассматривать эти вещи без конца и края, мне это нравилось, я могла просто все купить или выпросить. Иван Иванович был доволен и доверял нам, хотя я уже успела выпросить ковшик. Но разве простодушному человеку понять, что такое коллекционер?
Допустим, я имею самую маленькую страстишку к собиранию этих вещей, допустим, я только изредка умею загореться именно собирая и находя такие вещи — редко, очень редко получаю их, но все-таки страсти разгораются, как и аппетит во время еды. Уж если есть нечто, то и другое надо, и третье. И я стала рассматривать все его драгоценности, чем его обрадовала еще раз.
И тут влетел в комнату вихрем щенок, кинулся к хозяину, ко мне, снова к хозяину, потом завернулся в половик, скрутил его, и грозные окрики: «Н-ну!» — не действовали на него нисколько, будто он не слышал ничего от радости. Был пнут, был выброшен ногой — не больно, просто отброшен за порог, и снова ворвался, и снова ему дали легкий пинок, но он даже не взвизгнул, не тявкнул, а молча опять продрался к хозяину и затих на время, чтобы снова грызть половик и закрываться им.
Быстры щенячьи радости, легки и просты. Его так манит день, солнце, река, трава, всякая вещичка в доме от веника до ложки на полке — прекрасной ложки, которая так и просилась в рот, до того была тонка, изящна и отполирована. Она не была под лаком, просто липовая ложка, но ей и лака не было нужно — она и так сияла своей точеной, литой, прямо костяной плавностью, будто ее отлили. Я разглядывала ложку, а щенок пытался вырвать ее из руки хозяина, что молча хмурился, глядя на щенка, — уж потерял терпение бороться с ним, а только искал веревку на окне, шнурок, приговаривая:
— А где ремень у меня?
Хозяин совсем не интересовался тем, что я перебираю его работы и все выглядываю, что самое интересное.
Он просто привык к тому, что его хвалят, его почитают, у него покупают или выпрашивают его поделки, он знал, что они привлекают внимание всех, что они хороши.
Он нашел наконец веревку и стегнул слегка щенка. Тот притворно испугался — и в этот миг вырвал у меня ложку из руки, которую я опустила.
Корни и пеньки были куда хуже всего остального, хотя хозяин именно ими гордился. Он работал все время. И я стала наблюдать за тем, как хозяин работал: он работал дни и вечера, все время, что мог, то и пилил-строгал-шкурил, полировал в руках. Шел на дворик, в руках держал тонкую шкурку, и все двигались его пальцы, шевелились, будто в руках он держал четки.
Помню, мне рассказывали, что четки делали из персиковых косточек, которые были отшлифованы пальцами тех, кто перебирал их, — они стирались до того, что не было видно рельефа косточки, только паутинка.
Так и хозяин беспрестанно вертел в руках свои поделки. Пальцы его мяли шкурку, трогали дерево, и это дерево будто становилось мягким, прозрачным и в то же время твердым. Оно напоминало теперь уже не просто слоновую кость, но старинные вещи из кости. Хозяин ел — и то держал свои деревяги возле тарелки, смотрел на них и, верно, думал, что ему предпринять дальше, а может быть, и не думал, а мысленно продолжал работать. И в воскресенье он не сидел сложа руки, и вечерами тоже.
— Иди, — кричала ему жена, — наколи лучины да Шаню загони, самовар ставить буду!
Хозяин не вдруг поднимался, не сразу отзывался. Он раскачивался долго, глядел неотрывно на то, что было у него в руках, потом еще держал это, что делал, перед носом, потом уже вставал и нехотя шел во двор. Там он разглядывал то полешко, которое надо было перевести на щепки: не то ли, которое ему нужно, пригодиться может, не то, что высохло и все в рисунке, — когда он убеждался, что нет, не то полено, только тогда он щипал его и собирал мелкие стружечки-колечки — не пригодятся ли на то, чтобы сделать из них деревянную муку для шпаклевки. Конечно, у него дерево висело на стенках, на полках лежало штабелями — высушенное, твердое, легонькое, завощенное с торцов, иногда и покрытое не то суриком, не то черт знает какой позолотой-бронзой-медом, сахаром, будто это были не полешки, а куски торта, похожие на сливочное полено, шоколадное, вкусное, просто съел бы, и только.
Я видела однажды человека, стоящего возле дома, который рушили, — старый дом, маленький, дачка старинная, его ломали, и летела пыль, стоял треск, и он, человек этот, весь в пыли, все ждал, когда кончат ломать, чтобы кинуться в самую пыль и грязь и извлечь оттуда старые балки, старые доски. И он кидался, нырял в этот пыльный омут и извлекал оттуда балки. Тащил их в сторону, пилил, оглядывал с великой нежностью, оглаживал, ласкал и пилил, пилил, сколько мог. Рабочие стояли кругом и глядели без всякой издевки, без всякой насмешки над этой работой — понимали его. Это был мастер скрипок. Больше того, эти рабочие, мне казалось, даже завидовали его страсти, его глазу на старое дерево, его умению видеть в дереве то, что оно может дать после. Петь, звучать, продолжать жить века.
Но если даже и не поет дерево, то оно может стать прекрасным и необычайным в руках такого любителя. Не просто там туеском-корзинкой, но вещицей, которая сама по себе уже нечто необыкновенное. Страсть в нем, глаза его, руки останутся — и даже настроение. Чужое тяжелое настроение передается. Не только человеческое, но даже собачье.