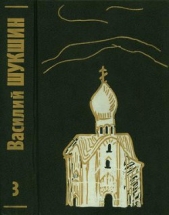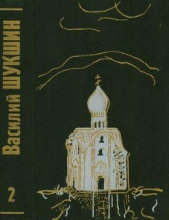Советский русский рассказ 20-х годов

Советский русский рассказ 20-х годов читать книгу онлайн
В книге публикуются рассказы 20-х годов советских писателей. Среди авторов А. М. Горький, М. М. Пришвин, М. А. Булгаков, М. М. Зощенко, Б. А. Пильняк, Б. А. Лавренёв, Ю. Н. Тынянов, Е. М. Замятин, Ю. К. Олеша и др.
В публикуемых рассказах воплощены различные стилевые манеры, многообразие молодой советской литературы.
Для широкого круга читателей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Вы понимаете, товарищ, он обнаглел до того, что признался мне в любви и заявил, что желает жениться на мне. Как вам это нравится?
Я спокойно ответил:
— Мне это нравится. Он честно говорит вам о том, что творится в его душе.
Она резко вздернула плечами.
— Что же, по-вашему, я должна отдать руку и сердце этому… кашевару?
— Сударыня, — сказал я мягко, — этот кашевар самый порядочный мужчина, какого вы до сих пор встречали. Ваш круг мужчин уже сошел с исторической сцены, на смену идут другие, и если вы не хотите утонуть, хватайтесь за спасательный круг. Могу ручаться, что Пузыркин лучший муж, чем ваш прежний.
Она резко вскинулась:
— Благодарю за совет. Я пришла к вам как к интеллигентному человеку, а вижу, что вы не лучше своих Пузыркиных. Я знаю, что мне делать. — И она вышла.
Несколько дней прошло тихо. Пущенное комиссаром словцо расползлось по полку, и кавалеристы в глаза и за глаза кликали кашевара графом Пузыркиным. Он ходил понуря голову и молчал. В последний день вечером я, проходя по селу, встретил графиню нежно идущей под руку с адъютантом инспектора кавалерии Спятковским. Это был нахальный, смазливый мальчишка со всеми манерами довоенного корнета и всеми задатками хулигана. Он приехал к нам на несколько дней с поручением инспектора осмотреть наш конский состав и завтра уезжал обратно. Они прошли мимо меня, и я уловил обрывок фразы.
— Ах, Жорж… я никогда не думала, что среди красных есть такие милые люди…
Они прошли… А утром я узнал, что графиня уехала со Спятковским.
— Скатертью дорога, — сказал я комиссару в ответ на эту новость.
Но вечером Пузыркин напился самогону и набуянил. Он хватил кочергой кого-то из насмешников и с трудом был скручен десятком красноармейцев. Я приказал отнести его в хлев и запереть до утра. Когда его несли, он кричал, то называя изменницу ласковыми жалобными именами, то покрывая ее четырехэтажным матом.
Комиссар стоял и усмехался, а у меня больно сжималось что-то внутри. Ночью меня разбудил ординарец:
— Товарищ командир… Встаньте… Оказия вышла… Граф Пузыркин застрелился.
Я на ходу набросил полушубок и вбежал в хлев. На полу среди красноармейцев лежал Пузыркин. Верхняя часть его головы была снесена выстрелом из нагана в рот. Он не мог пережить крушения мечты, гибели своих надежд на женитьбу на образованной, на выход из той серой и беспросветной деревенской жизни, из которой его наполовину вырвала уже революция. Что до того, что эта надежда была ложной, что он строил здание на песке. Ему оно казалось прочным, и обвал раздавил его самого.
Все это вспомнилось мне вчера в ресторане, под тягучие визг и скрипок. И когда пара скользила мимо моего столика, я как бы невзначай уронил вилку. Женщина вздрогнула и повернула голову ко мне. Наши глаза встретились. В ее зрачках мелькнул мгновенный испуг, но она быстро оправилась и, не теряя темпа фокстрота, прошла мимо меня не оглянувшись.
Они быстро уходят из памяти, эти годы, пронесшиеся ревущим водопадом.
Л. М. Леонов
Бурыга
В Испании испанский граф жил. И были у него два сына: Рудольф и Ваня. Рудольфу десять, а Ване еще меньше.
В средних еще годах профершпилил граф все свое состояние на одной комедиантке заезжей, а к старости остался у него лишь пиджак да дом старый, который даже и починить не на что было. Тогда же жена графова от огорченья и померла.
…Вот живет граф в нижнем этаже, там еще хоть мебель осталась, а в парадных залах, наверху, живому не житье: крыша протекает, зимой топить нечем, — там графовы дедушки на портретах помещаются, им-то все равно. Сам граф на почте главным служил, ребята его испанскую грамоту учили, кухарка суп варила; так и жили.
Да пришел к ним в одном студеном декабре случай непредвиденный: пошла ихняя кухарка на реку белье полоскать, нашла детеныша-нос-хоботом. Вышла она к реке, глядит и видит — сидит в сугробе этакой мохнатенький, замерзает, видимо. Из-под рубашонки копытца торчат, а нос предлинный, нечеловечий нос, — ручонками он его трет.
Жалостлива кухарка была, руками всплеснула, головой замотала:
— Экой ты! Ведь замерзнешь!..
А тот поглядел на нее исподлобья да басом на нее:
— Ну-к што ж… обойдется!
Разволновалась баба, схватила детеныша в охапку, запихала под белье, домой пустилась опрометью… Всю дорогу детеныш из корзины трубел:
— Ну к чему все это, пустяки одни! Зря это ты, баба…
Принесла домой, отрезала ему хлебца с фунт, шубейкой накрыла, стала насупротив, удивляется:
— Откудова ты, экое дитятко? И не обезьяна и на дитенка похож…
Урчит детеныш с набитым ртом:
— Мы не тутошние!
А сам ухватился за краюху, жрет, — только хвостик из-под шубейки вздрагивает. Был у него хвостик так себе, висюлькой, а рожки конфетками.
Тут вышел на кухню сам испанский граф самовар поставить, увидел детеныша, отскочил даже сперва, а потом на кухарку наступать начал:
— Этта что такое?.. где такое диво выискала? Зачем он тут?
Стала кухарка сказывать:
— Как вышла я этто к реке, вижу, — сидит в снежке, ножонки поджал, замерзывает…
Гмыкнул граф, поближе подошел:
— Н-да! И нос у него, действительно.
Задумался сперва, а потом взял детеныша за нос, дернул слегка. Заворочался детеныш, взъерошился, буркнул прямо в упор графу:
— Дурак ты, паря, чего привязался?
Дал ему граф за такие слова затрещину, но потом погладил ласково, спросил:
— Так вон оно как, даже разговаривать можешь… Тебя зовут-то как?
Протянул деловито:
— Буры-ыга!
И как вымолвил это детеныш, обрадовался граф, захохотал, как из бочки, посуда на полках запрыгала, канарейка спросонья с жердочки свалилась, заслонка у печки грохнулась. И откуда глотка такая: сам никудышный, сквозь пиджак ребра видны. Хохотал-хохотал, да вдруг взугрюмился, боясь кухаркино уваженье потерять, показал бабе на Бурыгу, прикрикнул и настрого приказанье дал:
— Ты его мылом карболовым да с нафталинцем протри опосля мытья. Мы его в лакеи приспособим!
И ушел граф спать, про самовар забыл.
Весь вечер ел Бурыга, кухарке в диковину, а Рудольф с Ваней весь вечер проспорили: настоящий это детеныш или так, только нарочно. И уж под самую ночь, когда все спали, а Бурыга лежа дожевывал четвертый фунт, притащили графовы ребята сигару детенышу, у отца стащили. Бурыга взял сигару, молча съел, причмокнул и сказал:
— Ну-к што ж, ничево! Приходите, когда не сплю — расскажу кой-што там, бывалое…
Но тут замотал головой, втянул носом воздух, как насосом, и пронзительно чихнул. Ваня вздрогнул и вылетел из кухни стрелой, другой за ним. А Бурыга чихнул им вдогонку еще раз, зевнул и стал засыпать.
В кухне пахло щами, тараканами и карболкой. И уже спросонья мечталось Бурыге так:
«Э-эх, бруснички ба!..»
Хорошо жилось Бурыге в зеленом приволье леса. Там по утрам солнце ласково встает: оно не жжет затылка, не сует тебе клубка горячей шерсти в глотку, оно свое там, знакомое. Там затянет по утрам разноголосая птичья тварь на все лады развеселые херувимские стихеры, там побегут к болотному озерку неведомые, неслыханные лесные зверюги… Ранними утрами поет там лес песню, а над ним идут, идут, идут алые облака, клубятся, сталкиваются: то не ледоход небесный — то земные радости плывут.
Выходит из своего логова детеныш Бурыга, — он летом в норке мшистой живет. Он спросонья на пни натыкается, зеленый, в зеленом крадется кустарнике, он похрамывает по кисельным зыбунам, шустро сигает через мертвые пни, кубарем катится, вьюнцом идет… Вот он сядет на прогалинке, он хихикает и морщится, он сидит-прискакивает, греет спинку, сушит шерстку под солнышком, а солнышко теплой лапкой его гладит, — жмурится и щурится, мурлыкает незатейную песенку, язык мухоморам кажет… А те нарядились, как к обедне, выстроились толстые и тонкие в ряд… Шесть их по счету, и весело им поэтому.