Земля городов
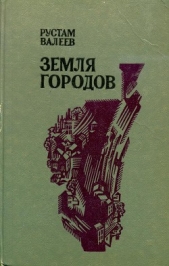
Земля городов читать книгу онлайн
Новый роман челябинского писателя Р. Валеева отражает большие перемены, которые произошли на земле Маленького Города, показывает нелегкий путь героев навстречу сегодняшнему дню.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Уже спускается ночь, и всем нам должно повиноваться ночи, кладущий конец людским трудам. — Он смотрел на отчима с улыбкой и вроде с некоторым вызовом.
— Ступайте да выспитесь хорошенько. Подниму ни свет ни заря.
…Кажется, уже под утро позвонили. Бубнил чей-то простуженный голос, отчим шепотом отвечал. Наконец он вернулся, заглянул в комнату, где спали дядя Риза и Петрович, и стал одеваться.
— Я с тобой, — сказал я. — Все равно не усну.
— Одевайся.
Улица встретила нас шорохом дождя, белесым, каким-то надрывным полусветом на востоке. В дежурном автобусе сидел бульдозерист, выставив в проходе сапоги с налипшей тяжелой глиной.
— Гидравлика, я думаю, барахлит, — заговорил он, как только поехали. — Не поднимается отвал, да и только. Все излазил, в костыли мать!..
— Давно стоите?
— Часа полтора.
— Надо было сразу ехать.
Белесый унылый мрак тек за окнами, а машина как будто стояла на месте и только кренилась то вправо, то влево, недоуменно и обиженно рыча. Наконец выехали на шоссе, болтанка кончилась, и теперь уже плыли мы, временами прорывая тьму, — в разрывах мелькали телеграфные столбы, редкая в этот час встречная машина, одинокое дерево обочь дороги. Холодное урчание мотора, монотонный низкий полет вперед и вперед куда-то в холод, едкий дурман бензинных паров баюкали, тяжело и больно баюкали, — и глаза слипались, а сердце колотилось и вдруг замирало, отметая сон. В конце концов я так продрог, что зуб на зуб не попадал.
Коричневые холмы выплыли из холодной белесой мглы. Свернув с бетонки, автобус стал. Бульдозерист гремяще кашлял и никак не мог прикурить от спички, прыгающей в его руке. Наконец-то я разглядел его: осунувшееся, с редкой желтоватой щетинкой молодое лицо. Парень хмуро отвернулся и задымил сигаретой. Несколько минут, что сидели мы неподвижно, показались долгими минутами. И шофер наш, и парень-бульдозерист, и отчим — обо мне и говорить нечего — были, кажется, поражены: такою дикой, не тронутой и холодной предстала в этот ранний час вся обозримая природа!.. Лишь в таких далеких, таинственных уголках могло торжествовать уверенное, не знающее осторожности звериное рычание. Но это рычали бульдозеры, скрытые холмами и все еще густым туманом.
Отчим велел нам оставаться и вышел. И только тут я заметил, что бульдозерист спит, привалившись боком к стенке и щекою прижимаясь к запотевшему стеклу. С полчаса, наверное, он спал не шелохнувшись, не кашляя, с подобревшим глуповатым лицом. Проснувшись, тут же закашлялся, опять хмуро поглядел на меня, затем бросился к двери. Я последовал за ним.
Отчим стоял возле бульдозера, неспешно, с явным удовольствием вытирая руки ветошью.
— Так ты говоришь, гидравлика барахлит? — глаза отчима щурились, смеялись. — У тебя, брат, пульт управления посыпался. Надо было сразу за нами ехать. Ну!
Парень, уже встав на гусеницу, проворчал:
— Я бы, может, тоже докопался. Времени все не хватает, и машина непривычная.
— Нам еще сто часов вместе работать. Докопаемся как-нибудь. — Тут он глянул на меня. — Эх, позеленел-то как! Ничего, скоро поедем. Тарасенко, наверно, волнуется.
Но прошел, по крайней мере, еще час, прежде чем мы поехали. Утро уже наступило. В пасмурной светлоте сизыми, обмороженными казались травы обочь дороги, только сама дорога, плотно крытая бетоном и не подверженная никаким стихийным напастям, блистала вызывающей гладкой чернотой.
Тарасенко встретил нас во дворе.
— Ну что, — спросил отчим, — ребята не пришли?
— Были, — неопределенно ответил Тарасенко. — И знаете, чем они занялись с утра? Забрались на крышу, да, на крышу, — он показал вверх, — и стали пускать шары.
— Шары? Какие шары?
— Воздушные. — Он покачал головой и залился тонким презрительным смехом. — Мне и в голову никогда не приходило, что в шар можно влить полведра воды, а затем спустить с крыши. Пушечный взрыв! Соседи в панике, этакой, говорят, напасти отродясь не видали.
— Игорь Антоныч, — сказал отчим тихим от огорчения голосом. — Отправьте их, пожалуйста, по домам.
— А вы не хотите с ними?..
— Нет, нет. Мое нравоучение они поймут так, что нельзя пускать воздушные шары — и только. Да, и только!
В город мы возвращались все на том же дребезжащем автобусе. Мы сели, тесно прижавшись друг к другу, и всю дорогу проговорили.
Он рассказывал, как учил этих ребят премудростям техники, ибо испытатель должен знать машину как свои пять пальцев. И они знают ее. Но… пока что они переживают какой-то младенческий восторг перед силой своих машин, в них много высокомерия… ну, хотя бы к земле, которую они роют. Вот, не знаю, поймешь ли? Прежде мы испытывали машины где-нибудь за городом, перелопачивали горы грунта. Машины отличные, ребята молодые, полные энергии — восторг необычайный! В них отвага и ярость охотников, опьяненных удачей, и в этом есть что-то ужасно обидное, неприятное, не знаю, что еще… Потом я стал договариваться с совхозами, вот теперь с рудоуправлением — все-таки не бессмысленная работа.
— Всего не расскажешь. Станешь инженером, поймешь, — закончил он с грустными, хотя и шутливыми интонациями.
Что он думал обо мне? Какую судьбу пророчил? Какими путями хотел вести юношу-сына?
— Хорошая профессия — инженер, — продолжал он, как бы примеривая на меня свою профессию. — Хорошая, — повторил с упором. — Но она слишком замыкает человека в его деятельности, слишком ревнива к его устремлениям познавать и любить еще другие сферы. И с этим ничего нельзя поделать. — Он внезапно смолк, как будто приказал себе. Я прикрыл глаза и притворился спящим. К моему удивлению, он запел, тихонько, не разжимая губ, что-то очень старинное, мною никогда и не слышанное, и сам он помнил, видать, только две нотки: м-м-мо-о-о-а-а-м-м. — Моей профессии не нужно прошлое, — сказал он как будто себе одному. — Ей необходимо только будущее. А жаль — в прошлом мы оставляем много хорошего.
О чем он? О том, что его профессии не нужны обычаи его маленькой родины, ее речь, песни? Или о том, что прошлое останавливает, а секунды, минуты между тем не знают даже мгновенной остановки — попробуй потом догони?
Через минуту, открыв глаза, я увидел: он ест хлеб, посыпая солью из спичечного коробка. Это был ржаной душистый хлеб, который недавно стали выпекать наши пекарни, — вчера, собираясь в дорогу, мы положили в саквояж две буханки. Он ел, откровенно смакуя, крошки сыпались на его колени, обтянутые плащом, и соскальзывали на пол так быстро, что он не успел бы собрать их в ладонь, если бы даже и хотел.
Часть третья
1
Алеша Салтыков воплощал для меня все самое лучшее, чем может одарить человека первая нежная дружба с ровесником. Знаю, воспоминание о детстве всегда дорого и часто его переоцениваешь. Но Алеша не был для меня воспоминанием — даже долгие разлуки с ним не внушали чувства, что разошлись мы навсегда.
В последние годы приходилось только слышать о нем, и каждая новость отзывалась во мне чувством уже невозвратимой потери. Так было, когда я узнал о женитьбе друга на патлатой Наталье Пименовой. Она была лет на пять старше нас, а мне и вовсе казалась старухой, вздорной, пропахшей сигаретной вонью, до умопомрачения захваченной конструированием, что никак, по-моему, не шло женщине, а разве только мужчинам вроде моего отчима. К тому же она была откровенно некрасива. Так это почему-то было обидно, казалось едва ли не изменой дружбе, а разгадка между тем была проста: о собственной женитьбе я не только не помышлял, но даже сама мысль о ней казалась гадкой, ибо я только еще мечтал о любви. По-моему, рано женятся те, кого детство обделило вниманием и лаской. Иные же до первых седин сохраняют оскомину от приторной нежности попечителей. Что ни говорите, а я, несмотря на странные, холодноватые отношения между родителями, получал от каждого из них в отдельности куда больше, чем иной мальчик в благополучной семье; а ведь был еще городок, помнящий меня с колыбели…

























