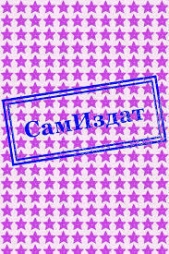В осаде
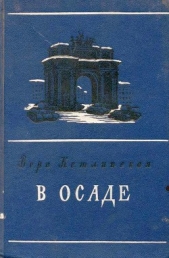
В осаде читать книгу онлайн
Роман «В осаде» русской советской писательницы Веры Кетлинской рассказывает о подвиге ленинградцев в годы Великой Отечественной войны (Государственная премия СССР, 1948).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Разрежь-ка мне гимнастёрку и перевяжи плечо. Только смотри — без болтовни. Царапина. А комиссар начнёт, и Перепечко душу выест… не люблю…
Перепечко из-за двери стонал:
— Товарищ командир, там яичница… ей-богу, сгорит!..
Каменский морщился, сдерживая стон. Алексей, путаясь неумелыми пальцами в размотанном — бинте, слишком осторожно стягивал раненое плечо.
— Товарищ капитан! — торжествующим голосом крикнул Перепечко. — Вас до телефона требуют со штаба дивизии…
— Пусть комиссар подойдет… Смолин, друг, да не копайся ты, право!
Перепечко настаивал:
— Комиссар вышел до раненых, товарищ капитан! Со штабу дивизии срочно!..
Перевязка была не закончена, и от боли тошнота подступала к горлу.
— Скажи, вышел командир, через пять минут будет.
Когда Алексей кончил бинтовать, Каменский запихнул разрезанную гимнастёрку под койку, с помощью Смолина натянул домашний мягкий свитер. Широкий синий ворот, прильнув к щекам, подчеркнул их бледность.
— Перепечко, водки!
Перепечко налил два стаканчика. Каменский с Алексеем чокнулись, выпили и поцеловались. Перепечко торопливо накладывал яичницу.
— Нет, нет, только не мне, — отмахнулся Алексей, — я пошёл.
Он был уже далеко, когда Каменский вспомнил то, что тщетно силился припомнить при нём. Он потребовал бумаги и карандаш, записал левой рукой, каракулями адрес. Но буквы сливались у него перед глазами, и ему пришлось лечь, чтобы не потерять сознания.
— Пиши, Перепечко… Марии Смолиной. «Капитан Каменский просит вас навестить раненого бойца Дмитрия Кудрявцева, отличившегося в бою…» Написал? Ступай быстренько в медсанбат, разыщи там раненого Кудрявцева, его должны в госпиталь отправлять. Скажешь, чтоб приложили к его документам и в Ленинграде сразу послали по адресу, понятно? Только чтобы в тот же день. Беги!
Перепечко со вздохом пошёл, но тут же вернулся.
— Товарищ капитан, с дивизии звонят… Сказать, нету вас?
— То-есть, как так нету?
Каменский вскочил, снова готовый работать. Минутный отдых и водка подкрепили его, а день был слишком удачен, чтобы не победить боль. И столько ещё дела осталось! Закрепиться, обезопасить себя от контратаки… проверить расстановку огневых средств…
Он подошёл к аппарату, с удовольствием чётко сказал:
— Капитан Каменский слушает.
Говорил полковник Калганов:
— Поздравляю, капитан, поздравляю и благодарю.
И сразу:
— Можете выехать сейчас? Командующий фронтом приказал вам срочно принять полк.
Каменский вытянулся, как будто командир дивизии стоял перед ним:
— Есть принять полк. Мне необходимо отдать приказания, товарищ полковник, прошу разрешения выехать через полчаса.
Ему пришлось привлечь на помощь Перепечко, чтобы помыться, побриться, стянуть с себя свитер и надеть чужую просторную гимнастёрку. Через полчаса он вышел подтянутый, свежий, и всё казалось ему каким-то обновлённым — и собственное лёгкое, живучее тело, и солнечный, прохладный день, и необычная, не фронтовая тишина, нарушаемая лишь звяканьем котелков у кухонь, где получали обед красноармейцы.
Мотоцикл понёсся по шоссе, ловко объезжая воронки. Сидя боком, чтобы не тревожить ноющее плечо, капитан Каменский всматривался в очертания города, ясно обозначившиеся на горизонте. Сколько охватывал глаз, в стройном порядке тянулись строгие кварталы домов, величественные массивы заводов, кое-где оживлённые изогнутой линией подъёмного крана или сквозным узором железнодорожного виадука. И сколько охватывал глаз, из заводских труб поднимались к суровому ленинградскому небу сизые дымы, поднимались прямыми неколебимыми столбами, спокойно и грозно.
8
Григорьева стала каменщиком. Окна, заложенные ею, были надёжными укрытиями, с узкими и удобными щелями бойниц.
Вся окраина, где работал отряд Сизова, была теперь подготовлена к сопротивлению. Каждая улица, каждый перекрёсток, каждый переулок простреливались насквозь и в разных направлениях.
Баррикады и надолбы задержат танки и автомашины, а огонь из домов уничтожит живую силу. Из-за баррикад полетят под гусеницы танков связки гранат и бутылки с горючей смесью. Если враг захватит один рубеж, он наткнётся в нескольких шагах от него на следующий, не менее упорный. Если враг ворвётся в дом, его будет ждать борьба на каждой площадке лестницы, в каждой квартире, в каждой комнате, а если ему всё-таки удастся овладеть этим домом, оскалится, ощетинится следующий…
Работницы радовались, вникая в суть плана обороны. Они примеривались к бойницам и с удовлетворением хорошо поработавших людей рассказывали друг другу, что вот этот переулок неприступен, а через тот перекрёсток ни за что не пройти.
Григорьева бывала дома только ночами, и в опустевшей комнате ей было не по себе. Она подолгу сидела, устремив глаза на фотографии, висящие над столом, — на одной она была снята с мужем и тремя мальчиками, на другой старшие сыновья были уже взрослые, в красноармейской форме, а на третьей был снят младший, Мишенька, с товарищами по школе. Двое старших, Иван и Григорий, служили в пехоте. Мать очень хотела, чтобы младший пошёл в танкисты или в артиллеристы, там ей казалось безопаснее, но Миша тоже попал в пехоту и был на фронте в одной дивизии с братьями. С июля не имела она писем от сыновей, знала только, что дрались они под Кингисеппом и из этих боёв вышли невредимыми. Но с тех пор прошло много недель, каждый метр ленинградской земли был уже полит кровью — кто знает, живы ли, здоровы ли, трое её сыновей? И какие они теперь? Она старалась представить их себе выросшими, обросшими, закопчёнными в боях мужчинами… Но вспоминала их прежними мальчиками.
Иногда она садилась писать им письмо — адресовала старшему, а писала всем троим и называла их Ванятка, Гришутка и Мишенька, как будто они были маленькими. Но когда первые слова привета и любви ложились на страничку письма, она не писала того, что тревожило и томило её в часы одиночества, а вставали перед нею бойницы и баррикады, пулемёты и снайперские точки, которые она строила. И другие слова выводила рука: «Великая гроза разразилась над нами, сынки, вам дали винтовки и пулемёты от всего народа, чтобы били немцев проклятых. Бейте их, сынки, как можете больше, не жалейте ни одного, не пропустите их к нашему Ленинграду, а мы здесь строим такие укрепления, что не пройти никому. Не осрамите свою мать, сынки».
Написав письмо, она перечитывала его много раз и задумывалась, нахмурив курчавые седые брови. Ей хотелось приписать: «Берегите себя, сыночки мои родные», но она никогда не делала этого. И виделось ей, как, стреляя, бегут в атаку её сыновья, как падают, распахнув руки, а другие бойцы всё бегут и бегут мимо них… Ей хотелось бы плакать, но слёз не было, и она старательно запечатывала письмо, придавливая его тяжёлым кулаком, как печатью, и шла опустить письмо в ящик, чтобы скорее дошло.
И вдруг прибежала девчонка с запиской: «Мама, приходи сейчас на станцию, может успеем повидаться, и принеси, если есть, табаку. Ваня».
Девчонка говорила:
— Скорее, бабушка, меня дома ругать будут…
Григорьева схватила пачку припасенного для сыновей табаку, побежала за девчонкой.
— Да где они, милая?
— На запасных путях, бабушка. Скоро поедут. В теплушках стоят. Туда и ходить-то нельзя.
— Да куда ж они едут через Ленинград?
— Не знаю, бабушка. Отступают, видно, раз в ту сторону едут…
— Отступают?!
Хотелось ей спросить, один ли был боец, что писал записку, не трое ли их было, молодых и сероглазых. Но страшно было спросить.
Они долго блуждали по запасным путям, девчонка привычно пробиралась между составами, ныряла под буфера и уже с той стороны кричала:
— Сюда, сюда, не, отставайте!
Григорьева спешила за девчонкой, и в спешке утихла сосущая тревога. И как бы неожиданно возникли перед нею теплушки, в которых теснились бойцы, и за спиною ее раздался голос:
— Мама!
Боец стоял перед нею, высокий, обросший бородой, со впалыми глазами, с морщинами усталости на серых щеках. И надо было материнским глазом вглядеться в него, чтобы воскликнуть обрадованно и горестно: