Касьян остудный
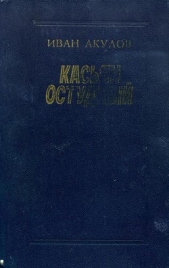
Касьян остудный читать книгу онлайн
Первая часть романа Ивана Акулова «Касьян остудный» вышла в издательстве в 1978 году.
В настоящем дополненном издании нашли завершение судьбы героев романа, посвященного жизни сибирской деревни в пору ее крутого перелома на путях социалистического развития.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Да вы успокойтесь, товарищ Мошкин. Похлебайте горяченького. Вас лихорадит, по-моему.
— Эти вокзальные ополоски, Семен Григорьевич, не успокоят и не отогреют. Да и лихорадки у меня нету. Душа кипит оттого, что зима пошла на перелом, а мы план по хлебозаготовкам выполнили курам на смех. Вот ихний сельсовет, — Мошкин кивнул на Умнова, — не скажу худого — впереди других. Но и он не радует. А в Ирбите не сегодня-завтра остановятся мельницы. Муки на складах — дай бог до конца месяца. А что дальше? Дальше-то что? Я бы не мучился, ежли бы знал, что нас постиг неурожай, стихия или бедствие. Ничего этого не было. Теперь и ответьте мне, вот вы, вы, председатель сельсовета, высшая и единственная власть на селе: почему деревня таит хлеб? Отвечайте вот, — с пьяноватой настойчивостью наседал Мошкин и теперь стал подвигаться острым плечом к Умнову: — Что же вы молчите на мои принципиальные вопросы? Вот так и скажите, что нечего сказать. Наплодили кулаков, понимаете, подкулачников, середняка откормили как на убой, а теперь не в силах справиться с ними.
— Наш Совет, товарищ Мошкин, по обязательному хлебу спущенное задание почти выполнил.
— То-то и оно — почти. А дополнение к плану?
— Довели до каждого хозяйства.
— И думаете, хлеб тронется?
— Хлеб в надежные места ссыпан. Думаю, не тронется.
— Вы его слышали, Семен Григорьевич? — вскинулся Мошкин к Оглоблину с обеими руками, залощенными за дорогу в шерстяных перчатках. — Да нет, вы его послушайте. Думаю, говорит, не тронется. Да ты хоть моргни глазом, председатель. Удивительное спокойствие. Ну, деревня. Ну, земля. Вот где чернозем так чернозем. И вечно матушка-деревня как тихий омут. Поверху лужок да речка, кабанчики да телятушки — сытое житье, а под зеленой ряской, в самой глыби непроницаемый мрак. Как дать по этому омуту, чтобы до самого дна дошло.
— Что же вы, Борис Юрьевич, всю деревню охаяли? — обиделся Яков Умнов. — В деревне, как и в городе, тоже народ неодинаковый. Кому-то, верно, житуха, а кто и на пустое брюхо.
— Деревня. Зажралась она. Заелась, — поспокойнее сказал Мошкин, видимо, запас хмельной энергии иссякал в нем: — Вас тоже, руководство, на местах какое, пощупать надо. Не можешь на доверенном посту обеспечить интересов пролетарской диктатуры, уйди. Другой сядет и не позволит этого спустярукачества.
В такой резкой форме никто не говаривал с Умновым, и он вдруг первый раз понял, что его легко могут заменить в любой момент, и от неожиданности растерялся, беспомощно поглядел на Оглоблина. Семен Григорьевич был противником всяких решительных мер для деревни, но спорить с Мошкиным не собирался, однако нашел необходимым взять под защиту Умнова:
— Он верно ответил вам, товарищ Мошкин: деревня неоднородна по своему составу. И нам пора понять ее, пора научиться говорить с мужиком как с равным, на доброжелательном деловом языке. А вы сразу с корнем выпахать, ударить, а метод этот — одной рукой за горло, другой — за кошель — осужден съездом. Трудовая деревня, товарищ Мошкин, — не колония вам, а союзник рабочего класса. Это оппозиция призывала не лицом к деревне, а кулаком. Ведь это оппозиция требовала принудительный заем для деревни, принудительный загон середняка в кооперативы, но съезд отмел всю эту вредную чепуху. В докладе о деревне прямо сказано: в дальнейшем нам очень пригодятся важные в социалистическом строительстве в деревне навыки осмотрительности, неторопливости, постепенности. Поймите это.
Мошкин не ожидал возражения Оглоблина и озадаченно умолк, но ненадолго. Насторожившись и вкрадчиво выцеливая прищуром глаза Оглоблина, спросил:
— А позвольте, Семен Григорьевич, один вопросик. Только один. По-вашему, и кулака надо терпеть, поскольку середняк чуть ли не родным братом рабочего класса сделался?
Умнов выжидательно лизнул подрез усов: ему вдруг понравился ежистый заготовитель, вероятно не умевший скруглять углов в разговоре, хотелось знать, что ответит Оглоблин, который откровенно печется за крепкого мужика. Он весь на стороне этого мужика.
— Не у места вы завели этот разговор, товарищ Мошкин.
— Да, конечно, — согласился Мошкин и, глубоко всосав свою тонкую дубленую щеку, нервно помял ее зубами: — И не говорить нельзя, Семен Григорьевич. Ведь с деревней все равно что-то надо делать. Она скоро вся окулачится, и рабочий пролетариат пойдет к ней попрошайкой. Чтобы быть кратким, Семен Григорьевич, скажу: до весны надо все деревни поголовно объединить в кооперативы. Разом и повально. Вопрос поставить, или — или. Или ты — кооперируешься, или — на Конду. А уж кулака — это само собой. Если мы позволим нынче частнику засеять свои наделы, считай, что господин мужичок-паучок затянет нас в свои тенета и оставит без хлеба. Это как пить дать.
Семен Григорьевич пальцем поманил официантку, расплатился и хотел подняться из-за стола, но Мошкин удержал его:
— Так как же нам быть с деревней, Семен Григорьевич, если она все больше уходит из наших рук? Мужик обжиреет, не всякой дробью его проймешь.
У Оглоблина красно и туго налилась шея, от нее густой румянец потек по скулам.
— У нас заведена дурная привычка: как только выпьем — так и о политике. Рассудительность и выдержку, разумеется, заменяем хмельной злобой. Оно бы и ничего для разгоряченной головы, иди бы, скажем, речь о покосной делянке или пропавшем снопе ржи. Нет, однако. Мы беремся решать огромные проблемы в масштабе всей деревни, всего города. Готовы дробить и перекраивать, считая, опять же по своей горячности, что только мы и несем благоденствие. Смешно бы все это было, если бы мы ограничивались словесами. Пойдемте-ка, пора уж.
Семен Григорьевич достал из жилетки карманные часы, поглядел и стал застегивать свою полудошку из рыжей собачины. Натянул шапку. Умнов запахнул полы окриковского тулупа, в котором решил ехать и дальше — хоть это и неловко, и туземно, однако все обнято теплом: и ноги, и плечи, и даже кожаная куртка. Мошкин, в пальтеце и фуражечке, с чем пришел, с тем и уходил, капли тепла не уносил с собой — не в чем. Может, из-за остуженности Мошкину хотелось еще спорить и горячиться.
Заиндевелый от бесконечных дорожных снегов, прокопченный стылым каменноугольным нагаром, пришел дальневосточный экспресс. На перроне брякнули в колокол. Со скрипом отворились промерзшие двери вагонов. Проводники выглянули в темную стынь неведомой станции и опять закрылись вместе со своими фонарями. Редкие пассажиры скоро рассовались по вагонам.
Ирбитские поднялись в свой вагон, в подслеповатом тамбуре у них проверили не только билеты, но и документы. Умнову, чтобы добраться до карманов, пришлось снимать меховую лопатину. В купе, куда отвел их проводник, два места были заняты. На свободные полки легли Оглоблин и Мошкин, а Умнов, завернувшись в тулуп с головой, пристроился на пол, уронив под столиком опорожненные бутылки. Мошкин долго вертелся на холодных досках, курил, тер ладонями остывшие колени и кашлял. «Померзнешь немного, так всмятку будешь, — под влиянием слов Оглоблина укоризненно подумал Умнов о Мошкине. — А и верно, в деревне не живал, хлеб не рабатывал, а злобы, что в шкалике сивухи, под самое горло. Деревня для него вся на одно лицо, жирная да гладкая, как попадья. Приходи и бери. А ведь у нас тоже есть ухорезы — скрозь прощупают твое пальтецо».
Не спал и Оглоблин, наверное, больше всех ждавший совещания, которое непременно укажет истинные пути экономической смычки города и деревни. Явно наметившиеся перебои в снабжении города хлебом, оскудение хлебной торговли все больше и больше тревожили горожан, которые склонны были винить кулака, он-де прячет зерно и хочет нажиться на хлебной нужде. «Есть живоглоты, да много ли их с крупными-то запасами — десяток, много — полтора на округ, — думал Семен Григорьевич. — И откуда им взяться, крупным хлебовладельцам, коль в округе нет ни одного хозяйства, сеющего свыше пятнадцати десятин. В этой обстановке надо прежде всего искать путь к середняку. Конечно, у середняка хлебушко есть и для прожитка и в запасе, значит, он обязан поделиться с городом, но все это должно быть сделано на добровольных началах. Не приведи господь, хоть малейшее принуждение или обман мужика. Иначе он забросит свои пашни, свернет хозяйство, и к будущему году голод торжественно прошествует не только по городу, но и по деревне-кормилице».























