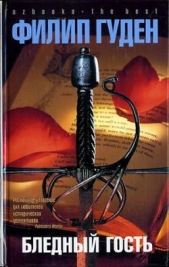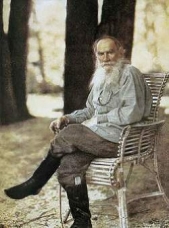Пути-перепутья
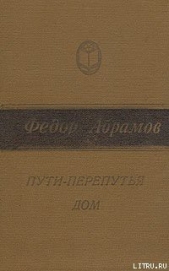
Пути-перепутья читать книгу онлайн
Роман «Пути-перепутья» — третья книга из цикла романов о жизни тружеников северной русской деревни, о дальнейшей судьбе семьи Пряслиных, об испытаниях, выпавших на их долю в нелегкие послевоенные годы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Плотницкий талант у Марфы прорезался к шестидесяти годам, после того как выслали Евсея. Бабы тогда и в Пекашине и в соседних деревнях просто вой подняли: жалко старика. А потом — кто же их теперь будет выручать деревянной посудой? Ведь в хозяйстве и ушат надо, и шайку, и санки за водой к колодцу сходить — да мало ли чего!
И вот напрасно, оказывается, разорялись из-за посуды: Марфа стала посуду колотить. Никогда в жизни ни одной доски не отесала, ни одного обруча не набила, а тут взяла топор в руки и почала шлепать. Да не только там ушаты, шайки, а и сани для колхоза. Правда, изделья Марфины не очень были складные, да зато крепкие, долговечные. Как сама она.
Заменила Марфа и еще в одном деле Евсея — в духовном.
Жуть что она вытворяла со своими старухами. На Слуде, рассказывают, одна староверка напилась в праздник допьяна и уснула на улице — так что сделала Марфа? Отвела старуху в кустарник за деревней, сняла с нее сарафан, рубаху, привязала к дереву: исправляйся! И старуха, голая, весь день выстояла под палящим солнцем, на оводах, так что к вечеру едва богу душу не отдала.
Дрожали перед Марфой и бабы, которые подходили к пятидесяти, — их она силой загоняла в свою веру. И непременно крестила: летом в реке на восходе, а зимой в кадке, в нетопленой избе.
Местные власти, конечно, пытались образумить осатаневшую старуху. Но с Марфой разве сговоришь? Что сделаешь с первой стахановкой района, которая всю войну не сходила с районной доски Почета? А кроме того, нельзя было не принять во внимание и то, что она вязала сани. Крепко выручала колхоз.
— Здорово, соседка, сказал Михаил, прикрывая за собой тугую, шаркающую дверь. — Труд в пользу. Или, как у вас говорят: бог на помочь.
— Как скажешь, так и ладно. Богу не слова нужны — помысел.
Марфа не Евсей. Это тот, бывало, когда ни зайдешь, ласковым словом встретит да сразу же работу бросит — любил поговорить, все ему любопытно да интересно, а Марфа даже и не встала. Сидела посреди избы на чураке, большущая, черная, как медведица, и хлопала обухом — обруч еловый на ушат наколачивала.
Свет был двойной — сверху, с грядки, от лампешки без стекла, и сзади, со спины, от красной лампадки перед божницей.
— Чего огонь-то из угла поближе не перенесешь? Лучше будет видно, полушутя-полусерьезно посоветовал Михаил.
Марфа не словами ответила — топором. Так тяпнула по обручу, что другой раз подумаешь, прежде чем что-либо сказать.
Михаил присел на прилавок к теплой печи, с которой пахло нагретой лучиной, глянул на знакомый кумачовый крест на белом квадрате холста, висевшем на передней стене, на тяжеленные черные книги с дощатыми обложками, обтянутые телячьей кожей, — они, как ящики, были сложены в переднем углу на лавке, — на медные иконы в красных бликах.
— От Евсея слышно чего?
— Печи кладет людям.
— Какие печи? Ты поминала, на огороде работает.
— Печи разные бывают. Кирпичные и духовные.
— Понятно. Значит, и там свое дело не забывает. А я к тебе тоже, можно сказать, по духовному делу. Насчет Лукашина, знаешь, какое положенье? Надо выручать мужика? Помнишь, как он в войну нам помогал?
Марфа кивнула.
— Я вот тут письмишко одно написал. — Михаил достал из кармана листок с заявлением. — Подписать надо. Когда там, наверху, увидят: народ требует знаешь, как на это дело посмотрят…
— Не подпишусь, сказала Марфа и опять застучала топором.
— Это почему же?
— В дела мирские не мешаюсь.
— Как это не мешаюсь? По вере по твоей. Бог-то помогать велит ближнему. Так?
— Нет, нет, не подпишусь.
— Да почему? — начал уже горячиться Михаил.
— А потому. Не бумагой — молитвой мы помогаем.
— Молись! Кто тебе запрещает. А раз тебя просят по-человечески, делай. Не подпишусь… Ты не подпишешься, да я не подпишусь, да он не подпишется, а кто же подпишется? Человек ведь, черт вас подери, пропадает!
Тут Марфа так на него посмотрела — в обморок впору упасть: страсть это при ней чертыхнуться и лешакнуться! Грех великий. Но Михаила уже ничем нельзя было остановить. Слова из него полетели, как картошка из мешка, опрокинутого в погреб. А чего, в самом деле! Тяжело ей три буквы поставить? Да и вообще — не будь она у старух за командующего, разве зашел бы он к ней? На кой она ему сдалась? Неужели он не понимает, как там, в райкоме, посмотрят на эти три буквы? Ага, скажут, хорошенькая защита у Лукашина — пекашинский поп!
Нет, он зашел к Марфе только потому, что за нее старухи держатся. Всех старушонок в кулак зажала, и он был уверен, что подпишись Марфа под письмом подпишутся и старухи. Вот для чего нужна была ему Марфина подпись.
Он ругал, пушил, лопатил Марфу — не мог своротить. И, эх, если бы дело тут было в страхе! А то ведь он знал: Марфа сроду ничего и никого на свете не боится.
А вот нашлась, нашлась, оказывается, такая сила, которая взнуздала ее.
Быстро отмигал избяными огоньками вечер. Пала ночь — то есть ни одного светлого окошка. Кромешная темнота.
Но на темноту, в конце концов, наплевать — он не в чужой деревне, любой дом на ощупь найдет. Хуже было другое. То, что какой-то гад пустил впереди его слух: Мишка, дескать, пьяный ходит. Не пущайте!
И вот так: стучишь, барабанишь в ворота, а тебе из сеней отвечают: нет, нет, Михаил, не открою. Утром приходи, тверезой.
Но плохо же вы, черт вас побери, знаете своего Михаила! Иван Дмитриевич из-за вас, сволочи, в тюряге сидит, а вам и горя мало. Вы — храп на всю ночь? Открывайте! Сию минуту открывайте, а не то я все ворота разнесу!
Открывали, извивались ужом. И — не подписывались.
К Петру Житову Михаил ни за что не хотел заходить: предатель! За десять килограмм ячменя продал его, своего товарища и друга. Какие после этого могут быть с ним дела!
Но у Петра Житова на кухне был свет. Единственный на всю деревню. А кроме того, кляни не кляни Петра Житова, а без него в Пекашине ни шагу. Он, Петр Житов, верховодит пекашинскими мужиками. Как Марфа Репишная — старухами.
Петр Житов был один. В руке карандаш, на столе — серая оберточная бумага. И полнейшая трезвость (у пьяного заревом рожа).
Его приходу не удивился. Неторопливо, деловито снял очки, ткнул толстым пальцем в бумагу:
— Кумекаю насчет поилок. Помнишь, Лукашин все хотел, чтобы у нас на новом коровнике автопоилки были?
Михаил зло хмыкнул: раньше надо было над автопоилками кумекать. А сейчас кого удивишь? Сейчас все, как говорит сестра, из кожи лезут, чтобы показать, какие они хорошие.
В общем, он достал письмо, положил на стол поверх серого листа с автопоилками: подписывайся.
Петр Житов снова надел очки, прочитал.
— Я думал, ты поумнее, Мишка.
— Насчет моего ума после поговорим. А сейчас — подпись ставь!
— Подпись поставить нетрудно. Все дело — зачем.
— А то уж не твоя забота. Без тебя разберемся — зачем.
— Эх, мальчик, мальчик! — сокрушенно вздохнул Петр Житов. — Мало тебя жизнь долбала, вот что. На самом деле он выразился куда более энергично и популярно. — Ты подумал, что из этого письма будет?
— Я-то подумал, а вот ты, вижу, в штаны наклал. А еще: я, я… Со смертью обнимался…
— Не трогай войну, Пряслин, — тихо, почти шепотом заговорил Петр Житов. Так лучше будет. — Он шумно выдохнул. — А теперь сказать, почему твое письмо ерундистика?
— Давай попробуй.
— Во-первых, коллективка. Пришпандорят так, что костей не соберешь.
— Коллективка? Это еще что такое?
— Письмо твое — коллективка. Кабы ты один его, понимаешь, написал да отправил — ладно, слова не скажу, резвись, мальчик, а когда ты по всей деревне бегаешь да подписи собираешь…
— Так что же, по-твоему, и письма нельзя написать? Ну-ну! — Михаил громко расхохотался. — Давай, давай! Еще чего скажешь?
— Еще скажу, что ты болван. За это письмо, знаешь, под какую статью можно подвести? Под антисоветскую агитацию.
— Мое письмо под антисоветскую агитацию? Да куда я его пишу? Черчиллю, Трумэну? Брось! Скажи уж лучше прямо: струсил. За шкуру свою дрожишь.